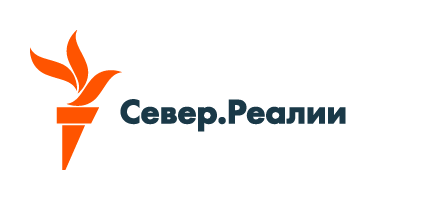В 1990 году в двух номерах "Литературной газеты" была опубликована статья известного математика, философа и богослова Сергея Хоружего, посвященная высылке из Советской России оппозиционных представителей интеллектуальной элиты, знаменитых философов, писателей, публицистов и ученых. Именно тогда возникло словосочетание "философский пароход", ставшее символом первой расправы со свободомыслящей российской интеллигенцией. А началась эта история ровно сто лет назад, с одной ленинской статьи, где сконцентрировалась ненависть к каждому, кто осмеливается думать без оглядки на власть.
Сайт Север.Реалии продолжает рассказывать о судьбах пассажиров "философского парохода", высланных из СССР в 1922 году. Многие из них не хотели уезжать заграницу, даже после допросов в ЧК и реальной угрозы расстрела. Как философ Николай Бердяев и писатель Михаил Осоргин.
Август 1922 года. Выдержки из заключений ГПУ:
…Бердяев Николай Александрович. С момента Октябрьского переворота и до настоящего времени он не только не примирился с существующей в России в течение 5 лет Рабоче-Крестьянской властью, но ни на один момент не прекращал своей антисоветской деятельности, причем в момент внешних затруднений для РСФСР Бердяев свою контр-революционную деятельность усиливал. Все это подтверждается имеющимся в деле агентурным материалом.
А посему, в целях пресечения дальнейшей антисоветской деятельности Бердяева Николая Александровича полагаю выслать его из пределов РСФСР заграницу безсрочно.
Сотрудник IV отделения СО ГПУ: Бахвалов
…Осоргин Михаил Андреевич. Правый кадет, несомненно, антисоветского направления. Сотрудник "Русских ведомостей". Редактор газеты "Прокукиш". Его книги издаются в Латвии и Эстонии. Есть основание думать, что поддерживает связь с заграницей. Комиссия с участием т. Богданова и др. за высылку.
Архивы сохранили фамилии следователей ГПУ, составлявших по воле Ленина списки на высылку "контрреволюционеров" в 1922 году. И – справедливо. Они были демиургами, творцами культуры русского зарубежья, хотя для демиургов выглядели невзрачно и помято, да и книг особо не читали. Зато у каждого было звание, печать, лихая подпись. Теперь мы знаем, кого благодарить за спасение хотя бы части русского интеллектуального наследия. Эти полуграмотные люди будто специально позаботились, чтобы собранием самых разных русских философов, ученых, писателей перенести на чужбину целый пласт русской культуры, во всем ее многообразии.
Конечно, такая "забота" объяснялась торопливым страхом, желанием как можно скорее угодить партийному начальству (в первую очередь Ленину, который, едва перелистав философские и научные издания, вышедшие в России после революции, сразу указал своим подчиненным, где следует искать "врагов"). И все-таки спасибо, что все получилось так, а не иначе.
Список пассажиров первого парохода "Обербургомистр Хакен", который отправился из Петрограда в Щеттин 29 сентября 1922 года, впечатляет. Философы Борис Вышеславцев, Сергей Трубецкой, Семен Франк, Николай Лосский, Иван Ильин, социолог Питирим Сорокин, профессор машиностроения, будущий изобретатель телевидения Владимир Зворыкин, создатель паровых турбин профессор Всеволод Ясинский, и многие другие... Они уезжали со своими семьями – женами, сыновьями и дочерями. Большинство было знакомо между собой, многие дружили домами.
Но среди всего этого "Ноевого ковчега" русской культуры, спасшегося от большевистского потопа на утлом немецком суденышке, особенно выделялась пара близких друзей, между которыми, казалось, вообще не было ничего общего: один – энергичный (его голос в разговоре часто переходил на крик), но одновременно барственный и вальяжный, одетый в безупречный английский костюм, с роскошной шевелюрой и изящной бородкой, и другой – скромный и в одежде, и в манерах, с простыми чертами лица и тихим голосом. Один – уже знаменитый на всю Россию философ, другой – на тот момент всего лишь публицист, автор сказок, рассказов и переводчик с итальянского. Николай Бердяев и Михаил Осоргин. Оба выходцы из дворянских семей, в начале XX века поддались революционному энтузиазму, испытали на себе (в легкой форме) ужасы царской охранки, аресты и ссылки. Оба к сорока годам разочаровались в революции и в марксизме. Но как из нескольких слов можно составить две абсолютно противоположные фразы, так из этих биографических частностей составлялись две совершенно различные судьбы.
"Чем вы занимались до революции? "
Бердяев родился в богатом именье под Киевом, в семье офицера-кавалергарда, и воспитывался в Киевском кадетском корпусе. Отсюда – барственные привычки, вспыльчивый характер и ненависть ко всему военному. Философией увлекся рано, на первых курсах Университета, откуда был отчислен за студенческие протесты и отправлен в ссылку еще в 1897 году – во времена, когда, как говорится, это еще не стало мейнстримом. Впрочем, ссылки тогда были недолгими и комфортабельными, и не мешали научным занятиям. Уже через два года в немецких журналах стали появляться его философские статьи (о социализме и марксизме – о чем же еще! Потому в немецких, не в русских). Но уже через несколько лет Маркс и революция были отправлены философом в почетную отставку, а социализм он стал рассматривать сквозь призму духовных ценностей и христианских идеалов.
Но государство, даром что книги читать не умеет, о Бердяеве тоже не забывало. В 1913 году он был отправлен во вторую ссылку, – за то, что вступился за афонских монахов, против которых Священный Синод провел спецоперацию – на греческий остров был отправлен отряд русских солдат для депортации в Россию тех, кто был с политикой Синода не согласен. Бердяев озаглавил статью "Гасители духа" – за что и был выслан в Вологду. Ссылка получилась довольно сносной, крепкие "четыре звезды" в рейтинге социалистов и революционеров, и работалось в ней хорошо. А когда произошла Февральская революция, философ благополучно вернулся в Москву.
Первая (1905 года) революция Бердяеву не понравилась, вторая (Февральская, "буржуазно-либеральная") понравилась еще меньше. А третья, Октябрьская, показалась такой, что хуже и быть не может. И, как ни странно, вдохновила.
"Я осознал неизбежность прохождения России через опыт большевизма, – писал он через десять лет. – Как это ни странно, я себя внутренне лучше почувствовал в советский период".
С таким деятельным характером, как у Бердяева, люди тогда оказывались в самых неожиданных местах. И не обязательно в тюрьме.
"Я почему-то попал от общественных деятелей на короткое время в члены Совета Республики, так называемый Предпарламент", – вспоминал он позднее с нескрываемым недоумением. Вскоре ему было присвоено звание профессора, выданы (благодаря хлопотам Каменева) охранные грамоты на квартиру и домашнюю библиотеку. Он снова начал читать лекции, основал Вольную академию духовной культуры, и даже стал участвовать в собрании Союза писателей…
А председателем Союза писателей в 1918 году был Михаил Осоргин, который тоже не вполне понимал, какая нелегкая занесла его, бывшего эсера и действующего масона, на этот административный пост.
Да, Осоргин (а вернее, Ильин – это была его настоящая фамилия, но, словно предчувствуя, что на "Философском пароходе" будет еще один Ильин, философ, он за пятнадцать лет до высылки из СССР взял литературным псевдонимом фамилию бабушки, и потому теперь их никто не путает), тоже попал в водоворот энтузиазма первых лет революции, только совсем с другой стороны. Он, как и Бердяев, в юности прошел через студенческие протесты и ссылку, но не такую комфортабельную, и не в Вологду, а в Пермь. Вообще, с тюрьмами и ссылками Осоргину везло гораздо меньше. Может быть поэтому, вернувшись в Москву в 1904 году, миролюбивый Осоргин немедленно примкнул к одному из самых радикальных движений, какие тогда значились в отечественном "революционном меню" – к партии эсеров. Хотя сама мысль реально убить кого-нибудь, пусть даже городового или сотрудника "охранки", была ему лично чужда, револьверы и бомбы соратников на своей квартире он хранил исправно. За что его и был арестован. Сперва Осоргина (тогда еще Ильина) приняли за главаря "бомбистов", но на допросах он не назвал ни одного имени. В итоге его собрались судить только за хранение оружия, и даже отпустили до суда под подписку о невыезде. Глупо было этим не воспользоваться – и через две недели он оказался в Италии, где и родился писатель Осоргин.
С детства его интересовала литература, с 16 лет он публиковал в уральских газетах первые очерки и рассказы, а теперь, в эмиграции, писательство стало для него основным занятием. Многие русские журналы с удовольствием брали его простые, но мастерски написанные рассказы и детские сказки. А в энциклопедии Брокгауза и Эфрона он стал постоянным автором, и десятки статей в ней подписаны: "М.Осоргин, Рим". Впрочем, предпочитал он жить не в городе, а в прибрежных рыбацких поселках, "на природе", где, помимо свежего воздуха, дешевых жилья и еды, имелось нечто более для него важное – красота природы, покой и гармония несравненных итальянских пейзажей. Вскоре он так крепко загорел и выучил язык, что итальянцы стали принимать русского эмигранта за своего соотечественника.
Волшебный итальянский климат плохо совместим с надрывными идеями русской революции. В конце 1911 года Осоргин печатно заявил о своем отходе от партии эсеров, а в 1914 году принял масонство, утверждавшее верховенство высших этических принципов и неразрывную связь всего живого. И это "живое" вскоре оказалось тут как тут, приняв облик дочери ортодоксального еврея, прекрасной Рахили, с которой у него случился страстный роман. Ради возлюбленной Осоргин даже обратился в иудаизм, надеясь, что отец невесты благословит их брак. Но куда там! Вместо благословения они получили лишь проклятия – что не помешало им больше десятилетия наслаждаться совместной жизнью (расстались они уже во время второй эмиграции, в Берлине). Но пока, в Италии, Осоргин писал рассказы и детские сказки, переводил с итальянского, и был счастлив. Рахиль с нежностью ловила каждое его слово, и опекала его, как маленького мальчика, каким он, в сущности, и был (позднее именно так, "вечным мальчиком", называла Осоргина Лидия Бердяева, супруга философа, добавлявшая, что "он какой-то легкий – как одуванчик".
И все-таки, несмотря на идиллическую итальянскую жизнь, все эти годы Осоргин переживал невозможность возвращения в Россию. Особенно сильно затосковал после начала Первой мировой войны – и наконец летом 1916 года, проехав через Францию, Англию, Норвегию и Швецию, тайно вернулся в Москву, где был готов жить на нелегальном положении хоть до самой смерти. Но тут наступил 1917 год, и грянула революция. Сперва одна, а потом и вторая.
"Обидно, что у нас нет Ницше!"
Их встречи с Бердяевым начались еще до революции, на собраниях, которые проходили по вторникам в квартире Бердяевых, и в 1918 году это было уже не знакомство, а настоящая дружба. Все участники этих еженедельных посиделок, среди которых в разное время были Василий Розанов, Сергей Булгаков и другие знаменитости, чувствовали себя тут в дружеском кругу. Это был оазис свободы, в послереволюционные годы едва ли не единственный в Москве, где обсуждалось все: и философские идеи, и общественная жизнь, и действия властей…
Бердяев давно уже был звездой первой философской величины, о нем говорили, писали в газетах, и о его "вторниках" ходили самые разноречивые слухи. Так, например, газета "Правда" не без иронии (тогда это еще позволялось журналистам) писала, что "у Бердяева во вторник опять было собрание, на котором обсуждался вопрос, антихрист ли Ленин, и в результате собеседования было решено, что Ленин не антихрист, но предшественник антихриста".
Но обсуждались здесь и вопросы посерьезней, например – как не умереть с голоду. Морковные пирожки, которые в разгар "военного коммунизма" пекла на чуть разогретой "буржуйке" супруга Бердяева, голод немного утоляли, но всерьез продовольственный вопрос решить не могли. Мало кто из философов отличался практической сметкой, и вся надежда была на таких людей, как Осоргин.
Он прекрасно знал, где достать дров, как починить разбитое окно, куда поехать затемно, чтобы утром получить по талонам немного крупы. Не удивительно, что именно он первым высказал идею о совместном открытии в Москве небольшого букинистического магазина, чтобы поддержать не только семью философа, но и всю московскую интеллигенцию, обладавшую обширными библиотеками, но с трудом сводившую концы с концами. Торговать в этой лавке должны были по очереди все.
Вот как описывает это сам Осоргин:
…Вели дела, главным образом, мы с Грифцовым, который жил у меня в Чернышевском переулке, почти рядом с лавкой (она была в Леонтьевском, потом на Большой Никитской): общий распорядок, закупка книг, расценка, касса, колка дров, растопка печурки, работа на складе. По части перевозки книг на санках вне упрека был милейший Яковлев. Обласкать покупателя и составить каталог фундаментальной университетской библиотеки никто не умел так, как "историк Возрождения" Дживелегов. Все качества деловой неосведомленности и купеческой бесталанности соединял в себе Борис Зайцев, ведавший отделом беллетристики; конкуренцию ему в этом отношении составлял Н. Бердяев…
– Есть у вас сочинения Ницше? – спрашивал покупатель.
– А вот, пожалуйста, обратитесь к профессору Бердяеву.
Момент кипучей торговой деятельности Николая Александровича!
– Вам Ницше? Вы хотите на немецком или на русском языке?
– Лучше по-русски.
– Русских изданий Ницше несколько. Хуже других издание Клюкина – и перевод плохой, и подбор материала.
– Я хотел бы издание хорошее.
– Есть и другие издания, но тоже с недостатками.
Следует подробное исследование русских изданий Ницше.
Покупатель слушает с почтением, философ излагает с полным знанием дела и желанием помочь покупателю в выборе. Наконец, выбор сделан, и Николай Александрович говорит:
– К сожалению, этого издания у нас нет.
– Ну, тогда я возьму другое, ничего не поделаешь.
– Да, это очень обидно, но сейчас такое время…
– Вы можете мне показать?
– Что?
– Какое-нибудь издание Ницше.
– Но вы хотите непременно русское?
– Мне хотелось бы русское.
– Но у нас русских изданий сейчас нет.
– Совсем нет? И даже клюкинского?
– И его нет. Но это издание плохое!
– Ах, вон что, я не понял! Ну, тогда мне придется взять немецкое, хотя я не так свободно владею языком. Вы все-таки мне покажите.
– Немецкое издание? Это ведь очень редко попадается. У нас нет немецкого издания!
И Н.А. Бердяев с улыбкой доброты и искреннего сожаления смотрит на непонятливого покупателя. Его действительно огорчает, что он ничем не может помочь естественной любознательности этого человека.
Покупатель смущен, но разговор продолжается. Бердяев авторитетно и убежденно разъясняет что-то о книге Лихтенберже, которая дает известное представление о Ницше, но имеет, конечно, и свои недостатки. В общем, ему удается заинтересовать ищущего премудрости, который не прочь книгу купить и с осторожностью спрашивает:
– А у вас есть Лихтенберже?
– То есть у меня лично или в лавке? Вы хотели бы купить?
– Да.
– Но у нас нет Лихтенберже.
– А…
Покупатель уходит в некотором недоумении, а Николай Александрович огорченно говорит:
– Это очень обидно, что у нас нет Ницше! Вот человек интересуется, а достать ему негде. Так неприятно отказывать…
И все-таки "Книжная лавка писателей" просуществовала три самых голодных года, с 1918-го по 1922-й, принося своим "акционерам" умеренный, но верный доход. Книги, особенно энциклопедии и словари, покупало и государство (для клубных библиотек), и простые читатели. А сотни и тысячи московских интеллигентов, приносивших сюда книги из своих домашних собраний, были спасены от голода.
Это зыбкое, полуголодное, и все-таки по-своему счастливое существование, которое позднее Осоргин описал в романе "Сивцев Вражек", продлилось лишь до начала 20-го года. А потом – начались неприятности посерьезней.
"К советской власти отношусь с удивлением"
Бердяева арестовали первым, в 1920 году, по обвинении в причастности к так называемому "делу Тактического центра", о котором сам философ даже не подозревал. Тем не менее ему пришлось просидеть в тюрьме два месяца, и выйти на свободу помогло лишь чудо и прямота характера. Вот что он вспоминает сам:
"…Однажды, когда я сидел во внутренней тюрьме Чека, в двенадцатом часу ночи меня пригласили на допрос… В кабинете около письменного стола, стоял неизвестный мне человек в военной форме с красной звездой. Он попросил меня сесть и сказал: "Меня зовут Дзержинский".
Я решил на допросе не столько защищаться, сколько нападать, переведя весь разговор в идеологическую область: "Имейте в виду, что я считаю соответствующим моему достоинству мыслителя и писателя прямо высказать то, что я думаю". Дзержинский мне ответил: "Мы этого и ждем от Вас".
Тогда я решил начать говорить раньше, чем мне будут задавать вопросы. Я говорил минут сорок пять, прочел целую лекцию. Я старался объяснить, по каким религиозным, философским, моральным основаниям я являюсь противником коммунизма. Вместе с тем я настаивал на том, что я человек не политический. Дзержинский слушал меня очень внимательно и лишь изредка вставлял свои замечания.
По окончании допроса Дзержинский сказал мне: "Я Вас сейчас освобожу, но Вам нельзя будет уезжать из Москвы без разрешения". Потом он обратился к Менжинскому: "Сейчас поздно, а у нас процветает бандитизм, нельзя ли отвезти господина Бердяева домой на автомобиле?" Автомобиля не нашлось, но меня отвез с моими вещами солдат на мотоциклетке. Когда я выходил из тюрьмы, начальник тюрьмы, бывший гвардейский вахмистр, который сам сносил мои вещи, спросил у меня: "Понравилось ли Вам у нас?"
Спустя полгода настала очередь Осоргина. Его ситуация была совсем не шуточной. Дело в том, что в 1921 году после невиданной засухи в Поволжье разразился страшный голод, от которого вымирали целые села. Бедствие затронуло миллионы человек, а советское государство, сильно потратившееся не только на Гражданскую войну, но и на финансирование разных революций заграницей, не имело возможности прокормить собственный народ.
Тогда по инициативе Горького и Каменева был создан ПОМГОЛ – общественный комитет помощи голодающим, в который вошли самые авторитетные ученые, писатели, общественные деятели. Состоял в нем и Осоргин, издававший бюллетень ПОМГОЛА. Буквально за считаные недели комитету удалось то, чего не могли сделать власти: была получена международная гуманитарная помощь, найдены резервы продуктов в других губерниях, и на Волгу пошли эшелоны с хлебом. Общественная организация, созданная "на скорую руку", неожиданно оказалась более эффективной и влиятельной, чем государство. Именно этого советская власть не смогла простить "буржуазному НКО".
Во время очередного собрания ПОМГОЛА комитет был арестован в полном составе. Вот как вспоминал об этом Осоргин в своей книге "Былое":
… Гудят у подъезда моторы, и впереди черных фигур влетает в залу женщина в кожаной куртке, с револьвером у пояса. Нас повезли на прекрасных машинах. Один из спутников спросил на ухо: "Как вы думаете, это – расстрел?" Я кивнул головой уверенно. Иначе – какой же смысл в аресте? Чем его оправдать? Нас нужно объявить врагами революции и уничтожить!
… Не расстрелянный в первую неделю, я считал, что опасность прошла, и сидел спокойно. Иногда водили на допрос, но допрашивать было, в сущности, не о чем, отвечать на допрос нечего; никакой вины за нами не было, сочинить ее было трудно, так как комитет старательно избегал всякой политики и вся деятельность его была открыта; но причислены мы были к разряду под буквами КР – контрреволюционеры, у половины арестованных членов комитета было немалое революционное прошлое, но это дела не меняло. Я не знал, что был, в числе шестерых, намечен к "ликвидации"
Во время одного из допросов следователь, что называется, поставил перед Осоргиным вопрос ребром:
– Как вы относитесь к советской власти?
– С удивлением, – иронично улыбнувшись, честно ответил тот.
Возможно, как раз этот ответ мог бы стоить ему жизни, однако помогло чудесное стечение обстоятельств.
Все эти дни Бердяев и другие друзья Осоргина лихорадочно обивали пороги разных советских ведомств, пытаясь вызволить его из тюрьмы, но тщетно. И Каменев, и Горький были бессильны. Говорили, что дело – в руках Сталина, и только он может смягчить участь арестованных. Помощь пришла почти в последний момент, когда никто уже не надеялся на благополучный исход. За членов ПОМГОЛА заступился норвежский ученый-путешественник Фритьоф Нансен, также участвовавший в сборе зарубежной помощи для голодающих.
Нансен в те годы был мировой знаменитостью, его популярность после полярных походов и плавания на бриге "Фрам" в ледовитом океане можно сравнить разве что с популярностью первых космонавтов в 60-е годы XX века. Перед ним благоговели даже в Кремле и не осмелились отказать великому полярному исследователю. Расстрел Осоргину заменили на ссылку.
…Весть о ссылке была настоящим освобождением и радостью. Поздним вечером вывели во двор, посадили на грузовик и доставили на вокзал. В вагоне отвели отдельное купе троим ссыльным (со мной ехали два известных кооператора, члены комитета) и пятерым молодым конвойным солдатам, которые ухитрились тут же, при отправке, потерять мешок с нашими и своими документами и всем продовольствием. Это тоже было удачей, так как теперь было неизвестно, кто кого везет. Были морозные дни, в вагоне отопления не было, стекла были разбиты, и меня, больного, товарищи уложили на лавку, прикрыв всем теплым, бывшим в нашем распоряжении; путь до Казани – трое суток, и путь страшный: вагоны кишели вшами, по России гулял тиф. У моих запасливых спутников оказался нафталин, которым усыпали пол и самих себя. Несмотря ни на что, мы ехали весело, подсмеиваясь над конвойными, которых нам пришлось кормить своими припасами. Приехав в Казань, мы отказались идти с вокзала в местную Чека и направились в Дом кооперативов, где были встречены ласково и предупредительно. И нас и конвойных накормили так, как мы давно не ели, – горячими щами, в которых плавали куски жирного мяса; спать уложили на настоящих кроватях, на мягких тюфяках, под простынями и теплыми одеялами. Наутро все же пришлось отправиться в казанскую Чека, где не знали, что с нами делать – никаких предпроводительных бумаг не было. Подумав, нас временно освободили, а конвойных арестовали для высылки обратно в Москву. Теперь уже мы проводили их на вокзал, усадили в поезд, щедро одарив деньгами и продуктами на дорогу. Недаром, по новой российской моде, мы все называли друг друга "товарищами"…
Документы так и не нашлись, и в бюрократической неразберихе через несколько месяцев Осоргин снова вернулся в Москву. Он опять оказался на свободе.
Но ненадолго.
"Мне бы нужно "арестоваться"
Лето 1922 года Осоргин и Бердяев решили провести со своими семьями в ближнем Подмосковье, в Барвихе, в маленькой деревне по соседству с "государственными" дачами, скрываясь не только от московской жары, но и от более серьезных неприятностей, которые, впрочем, не заставили себя ждать.
Списки на высылку неугодных интеллигентов для "философского парохода" были уже составлены, и ЧК начало в городах аресты. Здесь, вдалеке от Москвы, об этом, конечно, никто не знал, однако предчувствие носилось в воздухе, и Осоргин рекомендовал другу оставаться в деревне. Но разве Бердяева можно было удержать? Ему срочно понадобились для работы книги из домашней библиотеки.
Вот что вспоминает об этом сам Осоргин в своем очерке "Как нас уехали":
"…Почтенному философу, с которым мы тогда делили деревенский уют, пришло в голову побывать в Москве на своей городской квартире. Ждали его обратно вечером, но он не вернулся. Вместо него приехал знакомый и рассказал, что в Москве идут аресты писателей и профессоров, и в числе других взят и наш милый Николай Александрович.
Ночь переспав на даче, с утра я засел в камышах – может быть, и за мной приедут. Когда я с удочками проходил мимо перевоза, там слезали с автомобиля приметные фигуры с наганами и в суконных шлемах. Но местные жители приехавшим заявили, что я в Москве, и те уехали с недоверием, поставив крестьян сторожить ночью. Между собой крестьяне беседовали о событии:
– Того, патлатого, в городе забрали, а этот, видишь, убег.
…но вскоре из Москвы сообщили, что некоторые из арестованных уже выпущены, и всех высылают за границу. Высылка применялась впервые, – все же это лучше тюрьмы. За что берут и высылают самых мирных людей – неизвестно; но в то время у нас гулял по Москве анекдот про анкету, которую должны были заполнять все граждане. В этой анкете был будто бы такой пункт:
"Были ли вы арестованы, и если нет, то почему?"
Коротко говоря – отправился и я на Москву, конечно – не домой, а в дружеский дом, в частную лечебницу, где меня записали больным. Делами арестованных и высылаемых ведал следователь ГПУ товарищ Решетов (тогда неизменно прибавляли к фамилиям слово "товарищ"). Рискнул ему телефонировать:
– Товарищ Решетов?
– Я. Кто спрашивает?
– Такой-то. Правда ли, что вы меня разыскиваете?
– Д-да...
– Что же, приехать к вам?
– Да, вы должны явиться.
– А скажите, товарищ Решетов, вы меня не того, не задержите?
Строгим голосом:
– Я не обязан, гражданин, отвечать на такие вопросы.
– Да нет, вы меня не поняли! Я просто хочу знать, брать ли мне подушку, папиросы и прочее?
Немного повременил и менее грозным голосом ответил:
– Можете не брать.
И все же к зданию ГПУ, где я сидел дважды, и в "Корабле смерти" и в "Особом отделе", я подходил не без ощущения пустоты в груди. Но раньше меня туда привозили, теперь шел сам. И оказалось, что добровольно попасть в страшное здание не так просто!
– Куда вы, товарищ, нельзя сюда!
– Меня вызвали.
– Предъявите пропуск!
– Нет у меня пропуска, по телефону вызван.
– Нельзя без пропуска, заворачивай.
– Да мне к следователю.
Все-таки пропустили в канцелярию. Но и здесь с полчаса отказывали.
– Вам зачем туда?
Скромно говорю:
– Мне бы нужно арестоваться.
– Без разрешения нельзя.
– Как же мне быть? Исхлопочите разрешение. Долго куда-то телефонировали, наконец выдали бумажку – и молодой солдатик пропустил.
Допрашивать нас было не о чем – ни в чем мы не обвинялись. Я спросил Решетова: "Собственно, в чем мы обвиняемся?" Он ответил: "Оставьте, товарищ, это неважно! Не к чему задавать пустые вопросы". Другой следователь подвинул мне бумажку:
– Вот распишитесь тут, что вам объявлено о задержании.
– Нет! Этого я не подпишу. Мне сказал по телефону Решетов, что подушку можно не брать!
– Да вы только подпишите, а там увидите, я вам дам другой документ.
В другом документе просто сказано, что на основании моего допроса (которого еще не было) я присужден к высылке за границу на три года. И статья какая-то проставлена.
– Да какого допроса? Вы еще не допрашивали?
– Это, товарищ, потом, а то так мы не успеваем. Вам-то ведь все равно.
Затем третий "документ", в котором кратко сказано, что в случае согласия уехать на свой счет освобождается с обязательством покинуть пределы РСФСР в пятидневный срок; в противном случае содержится в Особом отделе до высылки этапным порядком.
– Вы как хотите уехать? Добровольно и на свой счет?
– Я вообще никак не хочу.
Он изумился:
– Ну как же это не хотеть за границу! А я вам советую добровольно, а то сидеть придется долго.
Спорить не приходилось: согласился "добровольно".
Оба проиграли
Так 29 сентября они оказались на кронштадтской набережной, от которой отчаливал "Обербургомистр Хакен". Путь предстоял недолгий и в хорошей компании.
Для многих, хотя сами они того, конечно, не знали, это был путь к славе. Бердяеву в эмиграции предстояло стать одним из самых известных русских философов XX столетия, которого восемь раз выдвинут на Нобелевскую премию по литературе, и написать главные свои книги: "Новое средневековье", "Русская идея", "Царство Духа и царство Кесаря". И одну из самых популярных своих книг – "Самопознание", в которой он писал о главном разочаровании, которое постигло его в Берлине вскоре после приезда:
"Я почувствовал, что эмиграция правого уклона терпеть не может свободы и ненавидит большевиков совсем не за то, что они истребили свободу. Свобода мысли в эмигрантской среде признавалась не более, чем в большевистской России. На меня мучительно действовала злобность настроений эмиграции. Было что-то маниакальное в этой неспособности типичного эмигранта говорить о чем-либо, кроме большевиков, в этой склонности повсюду видеть агентов большевизма…".
Выступая с лекциями, произнося страстные речи во время диспутов, Бердяев все чаще говорил, что Европа не должна оставлять Советскую Россию в изоляции, что нужно поддерживать и укреплять культурные связи с СССР, вести диалог с властями, чтобы "смягчить самые дурные стороны большевизма".
Это возмущало многих, в том числе и Осоргина. Царство социальной справедливости в исполнении большевиков виделось ему адом на земле, а идея исправить что-то с помощью культурного влияния казалась детскими фантазиями. Но спорить с Бердяевым было трудно. Он и не спорил – но все больше отдалялся от друга.
Еще в последнее свое лето в России, на той самой даче под Барвихой, откуда им с Бердяевым суждено было отправиться в изгнание, Осоргин начал свой первый роман, "Сивцев Вражек", замысел которого вынашивал много лет. Это был роман о том, что произошло с Россией за восемь лет, начиная с Первой мировой – и кончая торжеством коммунистической диктатуры. Но форма романа была "осоргинская", почти сказочно повествовательная, и художественным центром книги он сделал дом старого ученого-орнитолога, у которого каждый вторник несмотря на войну, голод, революцию собираются гости. Что-то в этом образе "дома-убежища" перекликается со знаменитой квартирой Бердяевых в Малом Власьевском переулке. Впрочем, есть там и "Книжная лавка писателей", и аресты, и тюрьмы, и хладнокровный гордый философ, и жалкий, неопрятный полуграмотный следователь, который решает его участь… Из маленьких главок-новелл, героями которых оказывались не только люди, но мышь, ласточка или даже поезд, как из фрагментов мозаики, незаметно выстраивалась картина великой катастрофы, через которую проходила страна – чтобы, возможно, когда-нибудь воскреснуть, как воскресает все в этом мире.
Когда в 1928 году роман был закончен и опубликован, они с Бердяевым уже почти не общались, хотя оба переехали в Париж и жили неподалеку друг от друга. Они мечтали о возвращении в Россию, но мечтали по-разному. Бердяев почти готов был признать коммунистическую власть и делал ставку на смягчение режима, а Осоргин, как и многие, ждал окончательного падения большевиков.
Оба проиграли.
Михаил Осоргин, лишенный советского гражданства в 1937 году и не пожелавший принять французское подданство, умер свободным "человеком мира" в Шабри, в долине Луары, на том берегу реки Шер, который не был оккупирован немцами, в 1942 году. Николай Бердяев скончался от разрыва сердца в 1947-м, под Парижем, в Кламаре, успев вновь принять за год до смерти советское гражданство, но так и не вернувшись на родину.
А их книгам предстояло ждать возвращения в Россию еще много десятилетий.