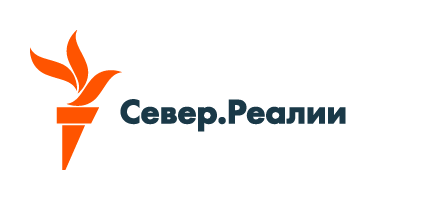В 1990 году в двух номерах "Литературной газеты" была опубликована статья известного математика, философа и богослова Сергея Хоружего, посвященная высылке из Советской России оппозиционных представителей интеллектуальной элиты, знаменитых философов, писателей, публицистов и ученых. Именно тогда возникло словосочетание "Философский пароход", ставшее символом первой расправы со свободомыслящей российской интеллигенцией. А началась эта история ровно сто лет назад, с одной ленинской статьи, где сконцентрировалась ненависть к каждому, кто осмеливается думать без оглядки на власть.
Приговор по первому классу
…29 сентября 1922 года с Васильевского острова, от набережной Николая I, переименованной в 1918 году большевиками в Набережную лейтенанта Шмидта, отошел пароход "Обербургомистр Хакен", следовавший в польский город Штеттин (теперь он называется Щецин). Это ничем не примечательное грузо-пассажирское судно, в котором располагалось 30 кают первого класса, уходило в свой самый знаменитый рейс: рейс "философского парохода".
На борту находились 30 профессоров университетов и философов из Москвы, Казани и других городов, которых вместе с их семьями власти отправляли в изгнание. Среди них были самые разные люди – и никому почти не известные, по бюрократической случайности попавшие в списки на высылку, и такие знаменитости, как Николай Бердяев и Сергей Трубецкой. Они сами не вполне понимали, по какому признаку большевистская власть выбрала и отправила в изгнание именно их. Тем более странно было, что ехали они первым классом, в дорогих каютах, как богатые туристы – но при этом каждому позволено было взять с собой лишь минимум вещей: одно осеннее и одно зимнее пальто, два комплекта белья, по две рубашки (ночные и дневные), по две пары кальсон, чулок и обуви. Немного валюты (хотя официально в Советской России она была под запретом). И никаких рукописей, книг, ценностей или ювелирных украшений.
Это казалось безумием, хотя и не слишком жестоким, на фоне большевистского террора, когда расстрелы и аресты уже стали повседневной обыденностью. По крайней мере, их высылали в свободную страну. И не их одних. За несколько дней до того с московских вокзалов поездами в Ригу и в Берлин было выслано две партии "инакомыслящих" интеллигентов, а 16 ноября из Петербурга вышел пароход "Пруссия", на борту которого находились философы Лосский, Карсавин и десятки других русских интеллектуалов с их семьями – всего 44 человека. Высылка продолжалась до середины 1923 года, и в результате Россию покинуло более 80 неугодных большевикам философов, журналистов, писателей, ученых, многие из которых сегодня являются гордостью отечественной культуры: Сергей Булгаков, Иван Ильин, Николай Лосский, Михаил Осоргин, Сергей Трубецкой, и так далее, и так далее…
Одни были известны своими яростными антибольшевистскими взглядами, другие всего лишь отказались поддержать новую власть. У одних была широчайшая аудитория, сотни тысяч читателей, слава и признание. У других – несколько десятков студентов и учеников. Оторванные от своей работы, прошедшие через допросы в ГПУ, они до последнего мгновения не верили, что их депортируют из Советской России. Многие ожидали ареста или расстрела. Но советская власть неожиданно для многих решила поиграть в гуманизм. "Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно", – лицемерно писал позднее об этой высылке Троцкий, как будто для расстрелов большевикам обязательно требовался повод.
Тем более удивительно, что на высылку были потрачены немалые государственные деньги – около 50 миллиардов рублей, что тогда составляло 25 миллионов долларов. "Не знаю, по каким причинам советское правительство оплатило проезд всех нас первым классом. Бывают же такие чудеса", – писал основатель издательства "Петрополис" Абрам Саулович Каган. Но, впрочем, у этого "чуда" с издевательски комфортабельным изгнанием был автор, чье имя уже тогда прекрасно знал весь мир: Владимир Ульянов, в просторечии – Ленин.
Превращение
Все началось в марте 1922 года, когда в журнале с боевым названием "Под знаменем марксизма" вышла статья Ленина "О значении воинствующего материализма" – в тот год вождь писал подобные опусы один за другим. Яростно обрушиваясь на критиков советской власти, в числе прочих Ленин прошелся по недавней статье Питирима Сорокина, который обвинял большевиков в разрушении института семьи. Эта злополучная статья вышла месяцем раньше в журнале "Экономист", одним из главных спонсоров которого был Абрам Каган.
Возмущенно изучая материалы, опубликованные в журнале, и состав его редакционной коллегии, Ленин писал: "Рабочий класс в России сумел завоевать власть, но пользоваться ею еще не научился, ибо, в противном случае, он бы подобных преподавателей и членов ученых обществ давно бы "вежливенько" препроводил в страны буржуазной "демократии". Там подобным крепостникам самое настоящее место".
Идея, как говорится, была высказана со всей пролетарской прямотой.
А спустя два месяца, когда во ВЦИК началось обсуждение первого Уголовного кодекса РСФСР, Ленин лично попросил добавить в него параграф, предусматривающий возможность высылки за пределы страны за контрреволюционную деятельность. Подобные судьбоносные поправки принимались тогда быстро, и когда 1 июня новый, с иголочки, УК увидел свет, в нем уже красовалась статья со знакомым многим последующим поклонениям советских граждан словосочетанием: "пропаганда и агитация". Она предусматривала тюремное заключение или высылку за границу. За самовольное возвращение полагался расстрел. Так, можно сказать, прямо на глазах удивленной публики всего за два месяца одна статья (публицистическая) превратилась в другую (уголовную).
Чем не чудо?
"Всех расстреляют, определенно! "
Но, впрочем, "чудеса" тут только начинались. Уже буквально на следующий день после рождения нового УК в прессе начали появляться статьи-доносы против тех, кто не принял советскую власть. Начали с тех же авторов и редакции "Экономиста", который, впрочем, уже был закрыт навсегда. Но этого определенно было мало, требовалось расширить список.
Перешли к людям искусства, за судьбу которых в те времена особенно переживал Троцкий. Его статья "Диктатура, где твой хлыст?", опубликованная в "Правде", обрушилась на литературоведа Юлия Айхенвальда. Это был великолепный образец революционной риторики, в котором автор умело избегал галантных выражений и политкорректных высказываний: "Книжка г. Айхенвальда "Поэты и поэтессы" насквозь пропитана трусливо-пресмыкающейся гнидой, гнойной ненавистью к Октябрю и к России… Это философский, эстетический, литературный, религиозный блюдолиз, то есть мразь и дрянь. Но у диктатуры есть в запасе хлыст, и есть зоркость, и есть бдительность. И этим хлыстом пора бы заставить Айхенвальда убраться за черту, в тот лагерь содержанства, к которому он принадлежит по праву".
А дальше все пошло еще быстрее. Уже 8 июня была сформирована специальная комиссия для составления списка высылаемых. В нее (как в прообраз будущих "троек") входило три человека – председатель ВЧК Уншлихт, нарком юстиции Курский и заместитель председателя Совета Народных Комиссаров Каменев (всем им суждено было умереть мучительной смертью в 30-е годы). Комиссия проработала полтора месяца, но в Политбюро ее деятельностью остались недовольны – списки получились слишком маленькими, их пришлось спешно дополнять и расширять.
Окончательный вид они приняли только к 10 августа, когда в них вошел 61 кандидат на высылку из Москвы и 51 из Петрограда. В тот же день ВЦИК выпустил декрет "Об административной высылке", по которому дела высылаемых рассматривались не судом, а Особой комиссией при НКВД под председательством Дзержинского. Все это выглядело настолько грозно, что многие всерьез подозревали, будто речь идет вовсе не о депортации, а о физическом устранении врагов режима. Сын философа Николая Лосского, Борис Лосский вспоминал: "…Довольно скоро заговорили и о московских арестах, и о том, что всем заключенным предстоит высылка за пределы СССР, а их семьям возможность последовать за ними. Не могу по этому поводу не вспомнить, как, сидя у парикмахера – знакомого придурковатого, но много о себе мнящего парнишки, – я сообщил ему про это, на что он возразил с важностью осведомленного человека: "Ничего подобного... всех расстреляют... определенно..."
Вероятно, этот не слишком оптимистичный прогноз действительно носился в воздухе. За фигурантов списков хлопотали, стараясь смягчить их участь, и иногда эти хлопоты увенчивались успехом. Так, благодаря усилиям друзей – художника Юрия Анненкова и писателя Бориса Пильняка – удалось добиться исключения из списков Евгения Замятина, чей еще не опубликованный, но явно антисоветский и подрывной роман "Мы" был широко известен благодаря машинописным копиям и в Москве, и в Петрограде. Это, в сущности, была "медвежья услуга", и на протяжении следующих десяти лет Замятин в Советской России буквально бился, как рыба об лед, добиваясь права на эмиграцию. Уехать в Париж ему удалось лишь чудом, после личного письма Сталину в 1931 году. Кроме Замятина, до начала высылки благодаря различным ходатайствам из списков было вычеркнуто еще 35 имен – и далеко не для всех это решение в итоге оказалось спасительным…
До последнего инсульта
Пока списки составлялись, Ленин сгорал от нетерпения. Его давняя ненависть к либеральной интеллигенции наконец нашла свой выход, и теперь он занимался ее уничтожением с почти сладострастной обстоятельностью. В мае он писал Дзержинскому: "К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим..." и тут же, почти перебивая самого себя, требовал составить первый список: "Вот… питерский журнал "Экономист". Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В №3 (т о л ь к о третьем!!! это nota bеnе!) напечатан на обложке список сотрудников. Это, я думаю, почти все – законнейшие кандидаты на высылку за границу... Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих "военных шпионов" изловить и излавливать постоянно и систематически".
Возможно, именно эта длительная вспышка ненависти, направленная на русских интеллектуалов, оказалась для Ильича роковой. Через шесть дней после записки, отправленной Дзержинскому, его поразил первый инсульт, а 16 декабря, ровно через месяц после того, как пароход "Пруссия" увез из Петрограда последнюю партию изгнанников, вождя парализовало – и не каким-нибудь коммунистическим, левосторонним, а вполне себе консервативным правосторонним параличом. Писать он больше не мог, говорил с трудом, и к весне, после третьего инсульта, наконец замолчал навсегда, хотя еще многие месяцы подавал признаки жизни.
Но это было уже не важно. Машина, запущенная им, работала в полную силу.
"Нас убедительно и трогательно просят"
Похоже, в 1922 году коммунистам еще было не до конца плевать на мнение международного сообщества (или они, рассчитывая на поддержку зарубежных сторонников, просто упражнялись в искусстве пропаганды, как это принято и сегодня, сто лет спустя). Так или иначе, 30 августа в "Известиях" было опубликовано пространное интервью о предстоящей высылке интеллигенции, которое Троцкий дал американской журналистке Анне Луизе Стронг. В нем Лев Давыдович изобразил депортацию философов и писателей как акт высшего гуманизма, почти что спасительный для их жизней: "Те элементы, которых мы высылаем или будем высылать, сами по себе политически ничтожны. Но они потенциальное орудие в руках наших возможных врагов. В случае новых военных осложнений они окажутся военно-политической агентурой врага, и мы будем вынуждены расстреливать их по законам войны. Вот почему мы предпочли сейчас, в спокойный период, выслать их заблаговременно…"
Спустя восемнадцать лет, когда из головы знаменитого революционера уже торчал ледоруб, эти слова вполне можно было бы отнести к искренним и даже пророческим. Но, разумеется, в 1922 году цель у них была одна, и, обращаясь к американской журналистке, Троцкий ее не скрывал: "…Я выражаю надежду, что вы не откажетесь признать нашу предусмотрительную гуманность и возьмете на себя ее защиту перед общественным мнением".
А гуманность была, разумеется, с кулаками. Уже в ночь с 16 на 17 августа в Москве, Петрограде и других городах у кандидатов на выдворение из России начались обыски и аресты. В тюрьмах ГПУ или под домашним арестом оказались Карсавин, Лосский, Бердяев, Айхенвальд и многие другие. Еще десятки оставались на летних дачах или в отъезде, и за ними продолжали "охотиться" все последующие недели, оставляя на квартирах засады и объезжая дома знакомых. Наконец собрали всех.
Впрочем, цель была именно такой – собрать, чтобы не разбежались. Не более того. Вот что вспоминал об этом Абрам Каган, арестованный в Петрограде одним из первых:
"Нас на допросе долго не держали, может, полчаса каждого. Без особой вежливости, но никаких физических воздействий ни к кому из нас не применялось. Определенных обвинений нам предъявлено не было, и через два дня нас перевели в настоящую тюрьму на Шпалерной улице, разместив нас по камерам по два-три человека в каждой. В общем, мы могли выбрать, с кем сидеть".
Предполагалось, что, собрав всех по спискам, купив им билеты на поезда и зафрахтовав пароходы, ГПУ полностью выполнит свою миссию и отправит арестованных с их семьями в изгнание. Но тут выяснилось, что в деле есть одна неувязка. Высылка должна была произойти в Германию – а для этого требовались немецкие визы. Отправить арестантов через границу в пломбированном вагоне, как когда-то Ленина, не представлялось никакой возможности.
На предложение выдать визы всем и сразу, с которым правительство обратилось к немецким властям, Германия ответила категорическим отказом, оскорбленно заявив, что она не является страной для ссылки. Канцлер Вирт заявил, что "Германия не Сибирь", и ссылать в нее русских граждан нельзя, но, впрочем, если русские ученые и писатели сами обратятся с просьбой дать им визу, Германия охотно окажет им гостеприимство.
То есть в ссылку надо было добровольно "попроситься".
И тут у сотрудников ГПУ возник когнитивный диссонанс. Надо было уговорить арестантов, чтобы они попросили немцев о визовой поддержке! Причем – уговорить "по-хорошему", потому что сломанными пальцами заявление не напишешь, и с перебитыми ногами в консульство его не отнесёшь.
На это ушло несколько недель. В ГПУ так старались, что немедленно давали свободу передвижения каждому, кто отправлялся в германское посольство. Как вспоминает Михаил Осоргин, "…нас убедительно и трогательно просят: "Хлопочите в посольстве о визах, иначе будете бессрочно посажены в тюрьму". Мы сговорчивы, мы хлопочем.
…Нам, высылаемым, было предложено сорганизовать деловую группу с председателем, канцелярией, делегатами. Собирались, заседали, обсуждали, действовали. С предупредительностью (иначе – как вышлешь?) был предоставлен автомобиль нашему представителю, по его заявлению выдавали бумаги и документы, меняли в банке рубли на иностранную валюту, заготовляли красные паспорта для высылаемых и сопровождающих их родных".
Наконец к началу осени все было готово.
Отъезд в никуда
23 сентября 1922 года первая группа собралась на московском вокзале. Вот как вспоминает об этом моменте Питирим Сорокин в своей книге "Дальняя дорога. Автобиография":
"Я внес два саквояжа в латвийский дипломатический вагон. "Все свое ношу с собой". Это я мог бы сказать и про себя. В туфлях, присланных чешским ученым, костюме, пожертвованном мне Американской организацией помощи, с пятьюдесятью рублями в кармане я покидал родную землю. Все мои спутники были в сходном положении, но никто особенно не волновался по этому поводу. Несмотря на запрет властей, многие друзья и знакомые пришли проводить нас. Было много цветов, объятий и слез".
Поезд следовал до Риги, где происходила пересадка на берлинский экспресс. На нем отправлялась лишь часть московских изгнанников, остальные в тот же вечер заняли места в прямом поезде Москва – Берлин.
А в Петрограде (которому до названия "Ленинград" еще оставалось целых два инсульта) высылаемые со своими семьями ждали отбытия парохода в гостинице "Интернационал" около Казанского собора. 29 сентября их вывезли на пристань и после долгого обыска распределили по каютам. Провожающих тут было не много. "Человек десять, не больше", – писал Юрий Анненский, один из немногих, отважившихся выйти на эти невеселые проводы. "Многие, вероятно, опасались открыто прощаться с высылаемыми "врагами" советского режима. На пароход нас не допустили. Мы стояли на набережной. Когда пароход отчаливал, уезжающие уже невидимо сидели в каютах. Проститься не удалось".
Путь до польского Щетина занимал около суток, но первые часы на корабле находился отряд чекистов, следивший, чтобы из кают никто не выходил. Наконец, после Кронштадта, они сели в лодку и уплыли. Тогда наконец все вышли на палубу.
"Когда мы переехали по морю советскую границу, то было такое чувство, что мы в безопасности, до этой границы никто не был уверен, что его не вернут обратно. Мы, изгнанники с неведомым будущим, чувствовали себя на свободе. Особенно хорош был лунный вечер на палубе. Начиналась новая эпоха жизни", – вспоминал об этих минутах Николай Бердяев.
Они готовились к встрече в Щетине, где, как думали, их будут ждать представители русской эмиграции. Долго обсуждали и согласовывали речи, ответы на вопросы… Но когда поздней ночью пароход подошел к пристани, оказалось, что она абсолютно пуста. Ни души, ни собаки. С трудом удалось найти грузчиков и три повозки, на которых имущество можно перевести на вокзал. Самим пришлось идти пешком.
"И фура за фурой поехали по направлению к вокзалу, а за ними, не по тротуару, а прямо по мостовой, взявши под руки своих жен, шли профессора, – вспоминала Вера Рещикова, дочь профессора Александра Угрюмова. – Это были целое шествие по Штеттину, напоминавшее чем-то похоронную процессию".
Каждому из них в глубине души казалось, что изгнание – ненадолго. Может быть на год, на два. Через пять дней после приезда в Берлин Питирим Сорокин уже выступал с докладом о положении дел в России, предсказывая скорый конец советской власти, и его слова имели шумный успех… Но – потянулись долгие годы и десятилетия эмиграции, на протяжении которых судьбы изгнанников складывались по-разному. Одни достигли мировой славы, другие ушли в забвение.
И это уже отдельные истории, которые мы тоже постараемся вспомнить и рассказать.
Продолжение следует…