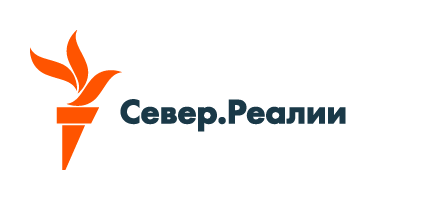Для всякого, кто помнит советскую эпоху и/или, как я, занимается ею профессионально, происходящее в современной России сопровождается острым ощущением повтора. И пусть для одних это повторяющийся кошмар, а для других – возвращенная молодость, стремительность, интенсивность и глубина происходящих в России перемен заставила многих задуматься над тем, что страна, семь десятилетий, как святыню, лелеявшая свою "Революцию", объявившая ее "главным событием ХХ века", а следующие тридцать лет, как мантру, повторявшая прямо противоположное: что главное – не допустить революции, страна, видевшая высшее зло в "цветных революциях" по всему миру и превратившая их в главную фобию, сегодня, несомненно, переживает именно революцию. "В буднях великих строек, в весёлом грохоте, в огнях и звонах" последних полутора лет стали наконец проступать несущие конструкции нового здания.
Ощупывание этого слона начал проницательный и яркий историк Восточной Европы Тимоти Снайдер, спустя всего месяц после начала войны заявивший со страниц The New York Times, что "Россия – фашистское государство". Это заявление наделало тогда немало шума, но быстро ушло с первых полос. Не только потому, что было снесено потоком куда более актуальных сюжетов страшной войны, но и потому, что оказалось не вполне точным. Как еще менее точным оказалось определение путинизма как необольшевизма. Напомню, что этот оруэлловский термин, изобретенный им в "1984" в качестве обозначения государственной идеологии Евразии, стал использоваться для обозначения ультралевых политических движений. Что в путинизме присутствует разве что в качестве риторических виньеток.
Объединял в себе опыт большевизма с практикой консервативной революции именно сталинизм. Он дал советскому обществу общую боль и травму, тем самым обеспечив его основанием для общей истории. Именно в ходе работы с травмой происходит осознание общего опыта и общей судьбы – всего того, что и составляет фундамент политической нации. Однако в силу композитной природы советского общества, его искусственной гомогенности и тоталитарной атомизации работа с травмой не состоялась.
Общества, как люди, начинают эту работу с отрицания. Травмы революции, Гражданской войны, надрыва индустриализации, коллективизации, Большого террора и Отечественной войны советское общество встречало отрицанием. Высшей формой этого вынужденного отрицания стал соцреализм – искусство отказа от реальности и дереализации жизни, которое учило "петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда". Дальнейшие стадии – злость, торг и депрессия, которые необходимо было пройти для того, чтобы прийти к последней, пятой – принятию, – это общество проходило не стадиально, но параллельно. Первое было модусом диссидентского движения, второе – конформистов-шестидесятников, третье – националистов-деревенщиков. Лучше всего обозначила все три типажа, как всегда, русская литература. К первым можно отнести Солженицына и/или Гроссмана, ко вторым – интеллигентов Трифонова, к третьим – депрессивных распутинских старух. Неудивительно, что синтез принятия не состоялся. Общее поле не сложилось.
Поэтому, когда советская эпоха начала на глазах крошиться во время горбачевской перестройки, когда она в поисках точки опоры для перемен обернулась к эпицентру советской истории – к сталинизму, люди, оказавшиеся на разных стадиях принятия, встретили десталинизацию по-разному. Травма осталась непроработанной, заболтанной, загнанной в подполье. Но что означает несостоявшееся принятие? Прежде всего – неспособность понять, что новая жизнь будет совершенно иной.
Так на уровне коллективного бессознательного был заложен социальный фундамент для отказа от реальности и попятного движения. Дальше дело было лишь за тем, чтобы у власти оказались люди, экономические и политические интересы которых совпадали бы с готовностью общества к реваншу, а степень нещепетильности – достаточно высокой для того, чтобы ею воспользоваться.
Гэбэшники в этом отношении являются центром идеального шторма. Они были не просто на одной волне с основной массой населения, но совпали с массовым запросом на исторический реванш, на самообман, на ностальгию по собственному величию, на конспирологическую картину мира с простыми ответами на сложные вопросы, на параноидальные фантазии с образом врага на Западе – высокомерного, коварного, всесильного, вездесущего... И главное – они профессионально всю свою жизнь возгонкой этих фобий и занимались. Только этим. Здесь может возникнуть вопрос: но при чем здесь Сталин?
Разведывательные органы есть в любой стране, политическая полиция – далеко не в каждой, хотя тоже не является редкостью. Но в советском чекистском изводе она была чем-то таким, что выделяло ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ из прочих подобных структур в мире, делало ее уникальной. И уникальность эта состояла (и вновь состоит) в том, что никогда, ни в одной стране мира секретная полиция не возглавлялась непосредственно главой государства.
Нет, разумеется, Сталин не был формальным главой этого ведомства, как и Путин не является. У него были свои начальники. Имена некоторых из них даже стали нарицательными. Например, "ежовщина" или "бериевщина". В действительности же все эти люди были лишь сталинскими порученцами. Ничем Сталин не занимался более тщательно, вникая во все детали, зная имена едва ли не всех основных следователей этого ведомства и ведущихся ими дел, как ГПУ-НКВД-МГБ. Он не только читал их сводки и отчеты, но редактировал стенограммы допросов, придумывал заговоры, дела и их сюжеты, следил за их ходом, назначал конкретных людей на конкретные операции, рассказывал, с кем и как следует "работать". Причем с самого начала до последних дней жизни.
Если бы кто-нибудь захотел представить себе, как были устроены сталинские мозги в виде помещения – с коридорами, проходами, кабинетами, лабиринтами, застенками, пыточными камерами, – у него получилось бы здание на Лубянке. Каждый работающий в нем является сколком сталинских мозгов. Каждый – хотя бы в малой степени – Сталин. Подобно тому, как Ленин лишь инаугурировал советский строй, а Сталин создал его экономические, политические, идеологические, культурные и иные основания, так же и с ЧК: Дзержинский лишь создал эту институцию и остался ее символом, а реальным создателем гэбизма был Сталин.
Путинский неосталинизм как идеология во многом питается политической философией сталинизма, которая вырастает из всё той же необходимости для автократа сохранить пожизненную власть. Только, в отличие от сталинизма, в котором концентрация власти в руках партии обосновывалась идеологически, неосталинизм намного более политически гибок. Он с легкостью использует самые разнообразные формы сохранения демократического декорума – от симуляции передачи власти ("тандем") до легалистских уловок о "двух сроках подряд", от переписывания конституции до обнуления сроков. Такой крайний и демонстративный правовой прагматизм сильно отличается от советского, который был основан на практически неизменном в течение многих десятилетий ритуале сохранения власти лидера через внутрипартийные механизмы.
Подобно сталинизму, неосталинизм опирается не столько на экономические, политические или военные институты, сколько на тайную полицию. Но если в сталинизме эта основа режима составляла его основную тайну, то в условиях современной России deep state в лице гэбистов руководит страной напрямую, без особого идеологического и политического опосредования. Это, замечу, говорит о том, что следование по пресловутой российской исторической колее не может быть более обеспечено простой инерцией. Требуется "прямое управление" со стороны ГБ для сохранения многовековых основ российского режима, находящихся под серьезным давлением со стороны модернизирующихся общества и мира.
Прежде всего речь идет о национализме и имперскости, на которых, подобно сталинизму, основывается неосталинизм. Но если в сталинизме они были встроены в гибкую квазимарксистскую идеологию, позволявшую Сталину позиционировать себя в качестве главного борца с империализмом и поборника пролетарского интернационализма, что обеспечивало ему влияние в западной интеллектуальной среде, то ригидный национализм и агрессивный империализм неосталинизма заставляет его опираться на зыбкие края политического спектра. Подобно тому, как сталинизм питался поддержкой левых маргиналов, неосталинизм питается поддержкой правых (и отчасти крайне левых) экстремистов. Эта опора на маргиналов в надежде на то, что они превратятся в мейнстрим, заставляет предположить, что в основе неосталинизма лежит неизжитый политический романтизм.
Как и всякая романтическая идеология, неосталинизм основан на обнаженном и демонстративно некамуфлируемом насилии. Разумеется, насилие лежало в основании всех тоталитарных идеологий и политических практик ХХ века, включая сталинизм. Но оно было тщательно закамуфлировано политической риторикой (борьба за светлое будущее человечества в СССР, арийской расы в нацистской Германии), апелляцией к мировой культуре в СССР и стремлением к модернизации в фашизме. В неосталинизме все позитивные транспондеры отключены, в результате чего насилие выступает в самой неприглядной форме прямых угроз, примитивной бравады и циничного бряцания оружием. Сталинизм, разжигая войны и вооружаясь, убеждал (притом весьма успешно!) собственное население и зарубежные страны (куда менее успешно) в том, что "борется за мир", вкладывая огромные ресурсы в свою "миролюбивую политику". В неосталинизме слово "мир" стало не менее опасным, чем слово "война". И то, и другое подсудно. Лозунг "Никогда больше!" сменился лозунгом "Можем повторить!", а первые лица государства заговорили на языке фельетонов Давида Заславского и карикатур Бориса Ефимова.
Эта опора на насилие и обнажение приема стали результатом крайнего политического утилитаризма. Путинский сталинизм сугубо прикладной, он лишен какой-либо логики, последовательности и страдает явной шизофренией, даже когда речь идет о таком ключевом в условиях войны факторе, как формирование образа врага. Так, актуализация старых советских фобий о "возрождении нацизма на Западе" (которые являются чуть ли не обоснованием войны за "денацификацию" Украины), с одной стороны, исходит из того, что на Западе возродился нацизм (который, не лишне напомнить, является ультраправой, расистской и антисемитской формой этнического национализма и фашизма), а с другой – что Запад отрицает "традиционные ценности" (например, патриархальную семью, которую нацизм, наоборот, культивировал), продвигает повестку ЛГБТ (что также прямо противоречит крайне правыми установками нацизма) или мультикультурализм (который вообще несовместим с расизмом и этническим национализмом, свойственными нацизму).
Такая противоречивость на грани бессмыслицы основана на иррационализме. Сталинизм апеллировал к рационализму, поскольку имел в своем анамнезе марксизм. Он оперировал "историческими законами" и "научностью", тогда как неосталинизм "духовен" и апеллирует к национальным традициям, "духу", "скрепам", открыто используя религию и церковь в качестве института воздействия на население.
Если сталинизм, как и все тоталитарные идеологии ХХ века, был мобилизационной идеологией, то неосталинизм – это идеология, основанная на деполитизации населения. Сталинизм погружал в политическую риторику, тогда как неосталинизм неотделим от гламурной сверкающей Москвы, стиля нового богатства, культа роскоши, светских раутов и хеппенингов – всего того, что было призвано уводить из сферы политики. В результате даже столь необходимая в условиях войны мобилизация проводится крайне неохотно и точечно для того, чтобы не спровоцировать открытое недовольство населения.
Последнее связано с тем, что неосталинизм – это популистская идеология. Она вся основана на мощном пропагандистском внедрении в массовое сознание требуемой режиму повестки (как было в случае с Украиной) с последующим выстраиванием политической линии в соответствии с массовыми же представлениями, ожиданиями, предрассудками, фобиями, только что властью же внедренными. Сталинизм основывался на лидерстве, что объясняется легитимацией режима через марксистское учение (партия ведет страну в научно указанном отцами марксизма направлении). Отсюда – назойливое воспитание, цензура и борьба с "мещанскими" и "мелкобуржуазными" вкусами. В неосталинизме мы имеем дело с отказом от лидерства. Режим черпает свою легитимность в "поддержке народа" (поэтому такое значение уделяется разного рода опросам и просчитыванию реакции на те или иные шаги власти), потому что как будто следует за голосом и духом "глубинного народа", которому одновременно через агрессивную пропаганду программирует мозги.
В центре новой программы находится ресентимент – гремучая смесь комплекса неполноценности с комплексом превосходства. Если в сталинизме расцвет этой культуры пришелся на послевоенную эпоху, то в неосталинизме его культивация стала едва ли не главной задачей госпропаганды. Все политические деятели, в разные годы встречавшиеся с Путиным, рассказывают о выслушанных от него многочасовых лекциях с бесконечным перечислением "обид", якобы нанесенных высокомерным Западом обманутой России. Этот дискурс радикально отличается от сталинского. Сталинский ресентимент основывался на прямо противоположном высокомерном отношении к Западу, что отражает разницу между повидавшим мир Путиным и практически никогда не бывавшим за пределами своих резиденций Сталиным. Как бы то ни было, упор на "обиды" и самовиктимизацию указывает на глубоко травматический опыт. А тот факт, что такой опыт ложится в основание политической философии, указывает на глубоко персоналистскую природу режима.
Дискурс ресентимента и "обид" обусловил характерную для неосталинизма ретротопию. В отличие от сталинизма, сохранявшего хотя бы риторическую связь с провозглашавшим идею "прогресса человечества" и пронизанным модернистским просвещенческим пафосом марксизмом, неосталинизм весь повернут в прошлое и не предлагает ничего, кроме идеи возврата – к традиции, устоям, скрепам, ценностям и подобным архаизирующим конструктам. Главным предметом сталинизма был "научный коммунизм" – учение о будущем. Если сталинизм обращался к истории для дополнительной легитимации политики, основания которой содержались не столько в истории, сколько в "бессмертном ленинском учении" или в деле укрепления СССР как "отечества всех угнетенных", то ревизионистская историзация политики, которой занимается Путин, является едва ли не единственным обоснованием его действий, что резко сужает и без того едва просматриваемый горизонт будущего: Россия будущего – это Россия прошлого.
Наиболее ясное выражение эта тенденция нашла в свойственном неосталинизму откровенном реваншизме. Сталинизм адаптировал элементы прошлого – будь то возвращение церкви во время войны или отказ от исторических идеологем ортодоксального марксизма ("Россия – тюрьма народов", "Россия – жандарм Европы" и др.) – в собственную картину мира. Это было встраиванием идеологических конструкций прошлого в советский нарратив, а не реваншем церковного охранительства или имперской политики царизма. Неосталинизм, напротив, делает ставку на реванш, апеллируя к "ценностям" или конструктам прошлого (будь то агрессивный антилиберализм, идеология "собирания земель" или Новороссия).
Позволяет этого добиться предельная инструментализация истории, ставшая фирменным знаком путинского правления с первых же шагов после его прихода к власти: утверждение советского гимна с новым текстом, звезды и орлы на новом знамени российской армии, сохранение ленинского Мавзолея при нарастающей критике Ленина и т. д. Поначалу это рассматривалось как попытка деидеологизировать символы и снять противостояние в обществе, пока не стало ясно, что превращение истории в коллаж стало завершением процесса превращения ее в бездонный склад опасных политических аллегорий и аллюзий, пригодных к любой политической конъюнктуре и при желании легко превращающихся в обоснования любых акций вплоть до развязывания агрессивной войны.
В основании сталинизма лежал этатизм – абсолютизация государства и представление о том, что оно может и должно вмешиваться во все сферы жизни. Сталин был бюрократом, и такая философия государства вполне соответствовала его представлениям о нем как об источнике "порядка". Однако сталинизм культивировал "государство диктатуры пролетариата" как источник равноправия, социальной справедливости и экономического процветания (под лозунгами социализма Сталин создал классический госкапитализм). В неосталинизме государство лишено всех тех функций, которые в советское время были социально позитивно маркированными. Это чистая фетишизация государства, которое не обеспечивает ни социальной защиты, ни динамичных социальных лифтов, ни качественного образования и здравоохранения.
Системная коррупция, свойственная неосталинизму, является результатом разложения структуры управления. Если в сталинизме нерадивые и/или разложившиеся руководители отправлялись в ГУЛАГ, то в новых условиях они работают за места для кормления, что в свою очередь расширяет социальную базу коррупции, делает ее всепроникающей – от президента до дворника, превращает ее в экономическую основу неосталинизма.
И, разумеется, все очевидные когнитивные зазоры и несоответствия между политическими конструкциями и реальностью, которые возникают в процессе функционирования режима, замазываются системной ложью и демонстративным политическим цинизмом. Разумеется, сталинизм тоже культивировал разного рода формы борьбы с реальностью, но очевидная ложь всегда прикрывалась в нем апелляцией к должному с точки зрения "творческого марксизма" и "вечно живого ленинского учения". Ложь легко оправдывалась "правильным мировоззрением". Сталинская публичная сфера, явившая образцы беспримерной лжи – от соцреализма до внешнеполитической пропаганды, оправдывалась тем, что она является не ложью, но "правильным" взглядом на "жизнь в ее революционном развитии". И в сталинское время значительная часть населения в нее верила. Путинская ложь абсолютна: она даже не требует от адресата веры – слушатели знают, что Путин лжет. И он знает, что его слушатели знают, что он лжет. Сталин мог лишь мечтать о столь интимном контакте с аудиторией.
Специфика неосталинизма состоит в том, что, в отличие от других нео- идеологий и политических практик (неонацизм, неоколониализм, неолиберализм, неоконсерватизм, неомарксизм и др.), он имеет истоки в русской авторитарной традиции и русской имперской истории. Он слишком национален. Отчасти поэтому Россия находится практически в полной изоляции в современном мире. Поддержка со стороны "интернационала обиженных" не должна вводить в заблуждение: она сугубо ситуативна и основана не столько на симпатиях к России, сколько на позиционировании Путиным себя в качестве нового "главного врага Запада". В новейшей истории эту партию разыгрывали немало политиков. И она не принесла им много дивидендов: Гамаль Абдель Насер, Фидель Кастро, Ясир Арафат, Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи, Усама бен Ладен, Уго Чавес… И, хотя впервые этот список (мартиролог) возглавляет лидер ядерной державы, что-то подсказывает, что все решает здесь отнюдь не военный потенциал.
Как можно видеть, структура власти современной России буквально проросла из политической философии сталинизма. И это неудивительно. Сталин был отцом советской нации. Как советские, так и постсоветские его преемники имели и имеют дело с главными продуктами сталинизма – (пост)советским народом и (пост)советским государством. У них нет никаких иных навыков и привычек, кроме тех, которые были заложены при рождении – в сталинизме. Поэтому неосталинизм не "идеологическая каша", как многим представляется, но вполне системная адаптация сталинизма к постсоветской политической реальности. В нем следует видеть то, чем он является, – один из продуктов очередной мутации идеологии реакции на модернизационный вызов и новую политическую стратегию самозащиты патриархального общества от требований либерализации. Его следует рассматривать поэтому в контексте арьергардных боев, которые Ancien Régime ведет уже более двух столетий с Новым временем. В самой Франции этот процесс занял столетие. Было бы странно ожидать, что в России он пройдет легче или быстрее. Тот факт, что сегодня за спасение режима выступили с поднятым забралом всегда скрывавшиеся в недрах государственной бюрократии его главные бенефициары и хранители в лице ключевых фигур госбезопасности, говорит о том, что он находится в смертельной опасности и его защитники осознают всю степень серьезности сложившейся ситуации. В таких условиях игра ва-банк – а это то, что сделала Россия, вторгнувшись в Украину, – редко бывает успешной. Скорее, это кратчайший путь к концу.
Евгений Добренко – филолог, культуролог, профессор Венецианского университета
Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции