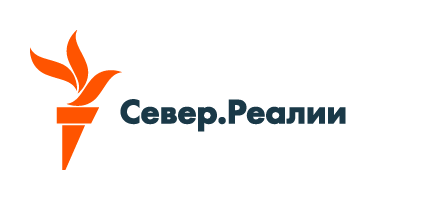9 мая в новом веке стал для россиян не просто днем памяти о победе над нацистской Германией, а частью многолетней пропагандистской кампании милитаризации страны. Как память о прошлой войне повлияла на сегодняшнюю агрессию России против Украины, как могло случиться, что "никогда больше" превратилось в "можем повторить", поменялось ли за прошедшее время в российской армии отношение к солдату – обо всем этом корреспондент Север.Реалии поговорил с кандидатом биологических наук Ильей Колмановским, автором множества креативных программ по популяризации науки и внуком Эдуарда Колмановского, советского композитора, написавшего музыку к знаменитой песне "Хотят ли русские войны" (автор слов – Евгений Евтушенко).
"Не дали оплакать"
Советская пропаганда после 1945 года утверждала, что победившие нацизм русские и все советские люди войны больше не хотят. Лозунг "Миру – мир!", часто в сопровождении белого голубя мира Пикассо, можно было увидеть повсюду. После страшной кровопролитной войны мир, казалось, являлся ценностью и для советской номенклатуры, многие представители которой были фронтовиками. И даже участие в локальных войнах вроде введения "ограниченного контингента войск" в Афганистан, гонка вооружений времен холодной войны не сопровождались такой агрессивной пропагандой войны, которую мы наблюдаем сегодня.
– Как и почему могло возникнуть в России в 21-м веке это – "можем повторить"? Может быть, это случилось оттого, что людям нашим не дали оплакать убитых и даже часто похоронить их, ведь сотни тысяч погибших так и остались лежать не захороненными. И поэтому люди не смогли по-настоящему погоревать о потерях, прочувствовать их масштаб до конца?
– Не дали оплакать, это очень точно, – говорит Илья Колмановский. – Начиная с середины войны сталинская пропаганда всячески задвигала тему цены, заплаченной за военные успехи, тему огромного количества расстрелянных СМЕРШевцами или войсками НКВД, террора войск НКВД против собственного мирного населения с оккупированных территорий. Огромные жертвы, часто безумный, бездумный подход к расходованию того, что они называли "человеческим материалом". Замалчивание цены началось во время войны и стало твердой государственной политикой после войны. Память о количестве жертв, поддержка ветеранов, инвалидов – все это подавлялось. В первые послевоенные годы власти старались, как известно, вообще вытеснить всякую память и даже не проводили парады 9 мая.
Официозный культ победы с военными парадами и "прилизанными благополучными ветеранами" начал возникать при Брежневе, – напоминает Илья Колмановский. – Противовесом этому официозу мог бы стать придуманный в Томске и превратившийся в истинно народное движение "Бессмертный Полк". В котором важнее всего была тихая семейная память о своем солдате – без парадных фанфар и милитаристского "можем повторить". Но движение это было приватизировано властями, извращено, а в этом году шествие полка и вовсе отменили. Путинский режим в поисках подходящих символов для объединения меньше всего хотел дать людям оплакать то, что они недоплакали, поддержать поисковиков, выкопать из земли убитых, вспомнить и достойно похоронить каждого погибшего.
– Я по семейным причинам в это погружался, – рассказывает Колмановский. – Я всегда хотел, чтобы мои дети знали, в какой стране они родились, для меня всегда важна была личная память – и о репрессированных родственниках, расстрелянных в 30-е годы, и о погибшем на войне брате моей бабушки. Я помню, как мы приехали в Карелию искать нашего Осю, любимого бабушкиного брата, погибшего летом 1944 года. Ему было лет 19. Мы долго не знали, что с ним случилось: его отец, воевавший на другом фронте, уничтожил похоронку. Он не хотел говорить семье – рассказал только через несколько лет после окончания войны. Бабушка очень хотела узнать о судьбе брата, следила за Книгами памяти. Когда возник проект по оцифровке похоронок (ОБД "Мемориал"), мы нашли в этой онлайн базе его имя и по цепочке раскрутили историю гибели его дивизии. Я приехал в Карелию, общался с поисковиками, которые до сих ор находят там тела погибших. Я сам нашел тот холм, где погиб Осин батальон, человек 700. Там все до сих пор усеяно костями, тюбиками мази, бинтами: они были отрезаны и погибали дня три – их просто расстреливала артиллерия. Я нашел там еще одного солдата – это просто, там очень тонкий слой грунта. Я привез туда детей, это было для них тяжелое впечатление. История войны их очень интересует – в основном через призму семейной истории.
Поисковики рассказывали мне, что даже в 60-е годы стихийные захоронения с самодельными мемориалами, возникавшие на местах боев, часто уничтожались бульдозерами. И я своими глазами наблюдал в Карелии, как работают поисковики: при мне они хоронили трех найденных солдат, не получая ни копейки от государства.
– И вот в стране, где до сих пор не похоронены солдаты той войны, возникло это "победобесие".
– Наверное, самый продуктивный подход к анализу этого предлагают "левадовцы". Социолог Юрий Левада сначала изучал тоталитарное общество в Китае, потом в СССР. После перестройки он сделал, наверное, самый массовый опрос в истории социологии через "Литературную газету". Почтовое отделение было полностью заблокировано ответами, которые присылали со всей страны. Левада пытался узнать: Советский Союз исчез, а как поживает советский человек? Он убедился в том, что советский человек, пережив крах Советского Союза, сохранился именно как советский человек.
– Но, наверное, как-то он все же изменился?
– В течение 90-х "левадовцы" видели, как советский человек превращается во все более озлобленное существо. Крах империи, державшей под сапогом половину мира, срезонировал жгучим ресентиментом, чувством национального унижения. Советский человек – житель общества, где высшая ценность – мобилизация в широком смысле, где мало ценится жизнь, индивидуальные права личности, то, как личность проживает свою единственную жизнь. В этой иерархии семья важнее, чем личность, общество важнее семьи, государство важнее общества. Принадлежность к чему-то большему – главное оправдание собственного существования, награда за унижение, за то, что с тобой поступают жестоко, пренебрежительно. Ты ничего не значишь, зато принадлежишь к чему-то большему.
– И все это показал опрос?
– Один из его результатов был неожиданным: на вопрос, какое самое значительное событие в прошлом страны вы бы назвали, 90% респондентов ответили – 9 мая. Казалось бы, это естественно, самая чудовищная война в истории была не так давно, СССР заплатил высочайшую цену. Но ученые говорят, что так не бывает. Обычные общества всегда покажут разнообразие мнений, например, во Франции кто-то назовет взятие Бастилии, кто-то начало Второй мировой войны. Такая консолидация говорит о том, что общество живет в состоянии мобилизации, войны. Война для них была не окончившейся, перманентной.
– Война кого с кем?
– Это хороший вопрос, на него нет ответа. Общество живет не повседневной жизнью, а до сих пор остается мобилизованным. Кто-то сказал бы, что это эхо мобилизации середины ХХ века, когда сталинский террор, а затем война создали экстремальные условия: вы мобилизованы, вы живете в состоянии войны. Пока был враг, стрелявший снарядами, это были немцы, но дальше была холодная война, ядерная угроза. Государство всегда держало людей в состоянии мобилизации, угрозы нападения, которое оправдывает автократию, необходимость сильной руки. Государство – это главный враг русскоязычной культуры.
– Но государство – это же не только Путин, силовики, чиновники, но и население страны тоже?
– Мне кажется, Арсений Рогинский, один из создателей "Мемориала", дает лучший ответ, он говорит: "Кто убивал?" И отвечает сам себе: "Убивало государство". Пока общество не поймет, что главный его враг – это государство с его символами, с его ценностями, в первую очередь ценностями мобилизации, когда человек ничто, а государство все, государство будет продолжать само себя воспроизводить в череде поколений. В этом смысле Путин – это не причина, это симптом. Можно насчитать сейчас как минимум миллион силовиков, прямых бенефициаров этого режима. Одна-единственная личность вряд ли развернет корабль истории на много градусов. У истории российского государства есть инерция, она движется по определенному курсу.
Как биолог я знаю, что другие живые системы, например организмы или популяции, разные свои свойства воспроизводят в череде поколений с высоким консерватизмом. Системы меняются очень медленно. Привнесения больших порций новизны они не терпят, умеют от них защищаться. Это, конечно, метафора, в социологии нет надежной теории, в отличие от биологии, о том, как работает инерция в социальных структурах, но она есть, там ничто не меняется в одночасье. Наоборот, очень многое наследуется консервативно. Люди говорят, что Путин развернул время вспять, к СССР. Но мне кажется, это движение вперед в очень грустном и грозном направлении дальнейшего становления полицейского государства, чрезвычайно опасного для своих граждан и всего остального мира.
"Все закончилось кувалдой"
– Как вам кажется, когда стоило уже насторожиться и понять, что режим ищет отнюдь не мирную национальную идею в качестве объединяющей?
– Мне кажется, с появлением георгиевской ленточки (акции с раздачей этого военного символа проводятся с 2005 года по инициативе государственного агентства "РИА Новости". – СР) . Я хорошо помню, это было раннее время путинизма, было ясно, что пропаганда ищет символ, который помог бы объединить людей и манипулировать обществом.
Тогда было еще неочевидно, как будет трансформироваться культ Победы. Он мог быть гораздо более цивилизованным, гуманным. Но тогда пришлось бы постоянно рассказывать всю правду про пакт Молотова – Риббентропа, про секретные протоколы, признать, что именно союз с Советской Россией лег в основу успеха нацистской Германии в начале войны, что Россия и Германия вместе напали на Польшу и поделили ее – что дало Гитлеру и ресурсы, и передышку, и возможность дальше вооружаться при поддержке советских специалистов, обходя санкции, наложенные после Версаля. Оккупация стран Балтии, нападение на Финляндию стали возможны благодаря этому пакту. Надо было признать военные преступления Красной армии и уничтожение польских пленных в Катыни. И огромную роль союзников в победе, и преступления сталинского режима, обескровившего Красную армию к началу войны.
– Но это по сути – признание всего режима преступным.
– Самое главное – память жертв и культ жертв. Общество должно было иначе отнестись к тому, что огромное количество людей не найдено, не захоронено. Эту работу вели Минобороны и "Мемориал", но скорее вопреки режиму. Работая в архиве Минобороны в Подольске, я видел два огромных ангара, набитых под завязку крошечными карточками – похоронками. "Мемориал" их оцифровывал, так мы находили родных погибших. Но государство хотело подавлять, доминировать и контролировать то количество правды, тот тип правды, который можно публиковать. И они совсем не хотели памяти жертв, не хотели "никогда больше", они хотели "можем повторить". Люди в костюмах цвета георгиевских ленточек, наклейки на машинах, где человек с серпом и молотом вместо головы насилует человека с головой-свастикой, это все переплеталось, шло бок о бок, в итоге все закончилось кувалдой (в ноябре 2022 года телеграм-канал Grey Zone распространил видео жестокого убийства завербованного структурой ЧВК "Вагнер" бывшего заключенного Евгения Нужина с помощью кувалды. Затем наемники во главе с Евгением Пригожиным сделали кувалду символом ЧВК. – СР).
– Но вы сами упомянули волонтеров-поисковиков, которые ввели раскопки, доставали кости солдат той войны, предавали их земле. Мы помним, как по-человечески начинался "Бессмертный полк", был еще "Мемориал". Почему все-таки так легко государству удалось все это подавить и извратить?
– В обществе есть эти силы. Есть поисковики – люди в буквальном смысле от земли, нашпигованной костями, но часто это люди с очень разной идеологией. Для кого-то из них война совершенно не кончилась. Когда они находят немца или финна, они, конечно, отдают его Финляндии, но у большинства из них нет идеи примирения, идеи, что столкнулись два больших зла – сталинизм и немецкий фашизм.
Идея создателей "Мемориала" – память о преступлениях государства против нас. В перестройку по всей стране люди стали узнавать, что случилось с их родственниками, возникла идея их найти, захоронить, а палачей назвать по имени. Эта ключевая общественная сила, по-настоящему народная, всегда была бельмом на глазу у власти. В отличие от залакированного 9 мая, эту трагедию трудно повернуть в сторону, приемлемую для власти. И дело Юрия Дмитриева, нашедшего Сандармох, чрезвычайно символично. Я бывал в таких местах захоронений – это как прийти в Освенцим. Для местных властей это особенно болезненно, это прямой укор им – это вы нас убивали. Эта память предъявляет обвинения, вопиет о том, что мы не должны этого допустить больше никогда. Как и с войной – это не должно повториться, но повторяется и то, и другое.
– Получается, что память о жертвах войны и репрессий вытеснил ресентимент?
– Это легло на благодатную почву. Да, ключевой компонент – ресентимент, унижение. Советский и постсоветский человек жил идеей принадлежности к мировой сверхдержаве, это помогало совладать с грустной реальностью – дефицитом, отсутствием вертикальных лифтов, пренебрежением твоими правами на всех этапах, когда каждый общественный институт от школы до пенсии направлен на унижение и подавление тебя. Зато была принадлежность к великой державе. Возникла комбинация из этого ресентимента и умело пользующейся им власти. Власть раздувала ресентимент не затем, чтобы Россия вставала с колен, а чтобы укреплять свой контроль: нас все обидели, унизили, обманули, у нас забрали союзные республики, разные ресурсы. Нам нужна такая власть, которая пускай нас самих подавит, раздавит, перемелет в фарш, но вылепит такую державу, где нам будет не обидно, что нас перемололи в фарш.
– А ведь мы думали, что это – исключительно, чтобы им не мешали воровать.
– Власть действительно первые 20 лет XXI века была плутократической. Но в действительности через стадию воровства и мафиозного государства нечто гораздо большее собирает само себя по кирпичикам: полицейское государство. Дальше надо чистить свои ряды, проводить ротации, как при Сталине, одни палачи должны убивать других. Воровать скоро будет нечего в условиях санкций. Все большее значение будет иметь власть ради власти.
"Они бравируют своими зверствами"
– Насколько удается властям все-таки превратить эту войну с Украиной в отечественную? Такое ощущение, что энтузиазма и искренней веры в то, что Россия там сражается с "нацистами", все меньше? Отсюда и Пригожин с зэками, насильственная мобилизация.
– Я сейчас читаю мемуары Николая Никулина, воевавшего под Ленинградом во Второй мировой войне. То, что он описывает, очень похоже на то, что мы читаем про эту украинскую войну. Он боится своих командиров больше, чем немцев. Первое, что он видит еще до первого боя, как посреди полного бардака тренировочного лагеря СМЕРШевцы выискивают двух людей, съездивших в самоволку в Ленинград, и расстреливают перед строем. А ведь многие ездили – это казалось нормой, этих двоих выбрали случайно, и это первое сообщение, посланное солдатам. Это красной нитью проходит через войну. Видно, как он сам меняется, учится выживать и убивать. У этого процесса есть собственная логика, не дающая задуматься, что и зачем ты делаешь. Срабатывают базовые механизмы, которые должны вынуть из тебя моральное и думающее существо, убрать лишние переживания, помочь убить самим и не быть убитыми. А еще съесть мешок картошки за спиной у командира, пока он его не отберет и не съест сам.
– Но ведь это ровно то, что сейчас прорывается к нам "из-за ленточки".
– Эта война происходит в эпоху соцсетей, и мы видим, что и нынешняя российская армия практикует внесудебные казни, особенно в частных военных компаниях, те же расстрелы перед строем и другие изуверства, там тоже солдаты боятся командиров больше, чем врага. При этом удивительно – многим удается сбежать, сдаться в плен, рассказать в соцсетях, как это было, поругать командование – это, конечно, большое отличие от той войны. В то же время ничего не рушится: у этой власти – как и у той – есть возможность отправлять в мясорубку тысячи людей.
Оценки показывают, что ресурс мужчин от 18 до 60 лет составляет примерно 20 миллионов человек. Новость про электронные повестки не создала заторов в Верхнем Ларсе, как вначале, когда люди прорывались на самокате и грустно шутили, что это Тур де Ларс. Значит, достаточно мобильные уже уехали, остальные готовы ждать повесток. У государства есть гигантский демографический ресурс.
У них проблемы с армией, крайне дисфункциональной, с вооружением, снаряжением, очень много устарело, а украинская армия модернизируется, и им остается заваливать телами – чтобы выматывать противника, тратить его снаряды.
– Зачем – ведь заваливание телами не работает.
– Работает, просто с низким КПД. Никулин описывает чудовищные бои под Ленинградом, многометровый слой тел. Они продвигались месяцами, метр за метром. Из тысяч убитых один случайно поразит огневую точку. Сегодня более совершенные технологии, так что "заваливание телами" – это еще большее варварство. При наличии у той стороны современной артиллерии, авиации, дронов – гибнет больше пехотинцев. При этом у той стороны тоже есть потери личного состава, скажем, один к семи – и на это основной расчет путинистов. Но для современной войны это еще более разорительная, варварская тактика, чем для Второй мировой, там шли против пулеметов.
И общество им это позволило. Всегда говорили про холодильник и телевизор. В прошлом году к этому добавился рефрижератор, куда попадают тела близких. И никакого восстания не случилось, просто жены берут кредит, чтобы купить мужу бронежилет.
– Почему так? Только ли страх и пропаганда или нет эмпатии, постсоветский человек оказался таким чудовищным?
– Я думаю, что государство всегда использует ровно ту дозу террора, какая нужна, чтобы держать всех в подчинении. Они удивительно небыстро раскручивают маховик. И это примечательно: история учит, что маховик трудно держать под контролем, он раскручивается как снежный ком. Но пока что несколько медленнее, чем можно ожидать. Они применяют столько террора, сколько им нужно.
– И, кажется, преуспевают, ведь массовых протестов нет.
– Есть массовое повиновение, готовность умирать, инерция, с которой советский человек себя воспроизводит в череде поколений. Часть этого синдрома – выученная беспомощность. Очень сложно научить человека, что он может управлять своей жизнью, будущим, что у него есть выбор, но легко научить, что он ни на что не влияет. Для этого нужно постоянно врать, смещать и контролировать нарратив. Сегодня мы не против братского народа и государства Украина, а против НАТО, англосаксов. А завтра все украинское стигматизировано. Потом украинские военнопленные – сверхлюди, перепрограммированные в секретных лабораториях, их генетика иная, чем у северных славян, – это всерьез обсуждается в Академии наук. Англосаксы придут за нашими детьми, сделают их трансгендерами. Постоянная непонятная угроза, "всей правды мы не узнаем", поэтому "от меня ничего не зависит". Главная цель – вызвать чувство беспомощности.
– При этом за слово "война" у нас до сих пор наказывают.
– Им придется рано или поздно назвать войну войной. Да, мы сейчас видим эти виражи. Путину очень не хотелось делать мобилизацию, за слово "война" дают реальные сроки. Но они увидели, что нет массовой поддержки, не хватает инструментов, чтобы создать энтузиазм. Максимум, чего добились, – "да, все плохо, я предпочел бы выплачивать кредиты, ходить в IKEA, но уж раз так вышло, надо побеждать". Реакция на осеннюю мобилизацию власть немножко напугала. Кажется, сейчас они нащупывают инструмент ползучей мобилизации, когда можно пополнять ресурс через электронные повестки, будет не видно, откуда взяли особенно много людей. Но вообще им нужно выруливать на рельсы оруэлловского двоемыслия: война – это мир.
– Разве уже не вырулили?
– Это будет, по оценкам большинства экспертов, это будет очень долгая война на истощение. Им надо сохранять хорошую мину, изображать изобилие, мирную жизнь, замалчивая жертвы, они же хоронят тайно, подавляют тех, кто пытается говорить об этих захоронениях, о цене войны. Но на каком-то витке им придется снова подогревать идеологию, рассказывать про угрозу и вынуждать платить гораздо большую цену за войну. Чем хуже на фронте, тем больше им надо подогревать общество. Так что, скорее всего, история с отечественной войной будет использоваться в зависимости от реальной обстановки. Настоящее военное поражение для них действительно равнозначно смерти. Хотя я считаю, что военного поражения не переживет конкретно Путин, но не думаю, что при этом что-то случится с полицейским государством. Вполне вероятно, что военное поражение зарядит еще более сильную пружину ресентимента. Следующее поколение лидеров использует годы и ресурсы для подготовки к следующей войне.
– А запредельная жестокость – она была всегда, но в Великую Отечественную войну хотя бы декларировалось, что это фашисты – звери, они пытают людей, а мы этого никогда не делаем. Сейчас никто не только не скрывает кувалду Пригожина, но даже как будто и бравируют такими именно методами. Почему?
– Хороший вопрос. И это действительно вопрос идеологии. Можно сравнить с лагерной криминальной культурой, с элементом уголовной эстетики.
Они дарят кувалды, они действительно бравируют своими зверствами: наша власть так велика, что мы сделаем что угодно, не считаясь с приличиями. Необходимость лицемерить – это выбор слабого, нам это не нужно. Один из "вагнеровцев" описывает зверское убийство судьи кочергой, за которое он сидел, но вышел из тюрьмы благодаря "Вагнеру" и пошел на фронт. Когда читаешь, как Пригожин их подбадривает, бросается в глаза, что все они уголовники, а менты и судьи – враждебная каста. Это интересно –может быть, это зарождение новой общественной формации, пересмотр основных институтов. Менты и судьи десятилетиями навязывали им необходимость соблюдать приличия, нормы. Может, они сейчас на пороге того, чтобы отрясти прах и двигаться в какую-то другую реальность. Мы знаем, что дальше их ждет, что эти кувалды первыми настигнут их самих.
– То есть не удается пропаганде создать образ благородного воина? Или им это уже и не нужно?
– У них это не заладилось. У этого режима, в отличие от большевистского, почти нет идеологии. Единственная идеологема заключена в формулировке "все врут", "весь мир прогнил", это идеология абсолютного цинизма. Заманчивее идеи "офицерской чести" другая формула: все, кто претендует на обладание этой честью, врут. Лучше мы освободимся от этих установок, будем в тех домах, где стоит русская армия, гадить в гостиной, терроризировать мирное население, ведь у нас, в отличие от остального мира, достаточно самоуважения и уверенности в себе, чтобы не лицемерить.
Уже когда Путин произносит "вежливые люди" со своей уголовной ухмылкой, он одновременно шутит над идеей о том, что нужна вежливость, это вторжение вооруженных людей – насмешка над идеей референдума в Крыму. Здесь есть аспект эмансипации, преодоления общественных норм, и национальных, и международных.
И с другой стороны, мы слышим – "А как быть?", "С волками жить, по-волчьи выть". "Мы все равно будем гордиться нашими мальчиками, нашим президентом, наша страна все равно должна победить". "Все это грустно, лучше бы взять кредит и пойти в IKEA, но такая жизнь, так устроен весь мир" – этим оправдываются все преступления. Это чрезвычайно ядовитая, могучая и живучая конструкция.
– Да человек вообще грешен.
– Не просто грешен, а чудовищно грешен. И это окей в их картине мира. Это их единственная идеологема, как говорят многие аналитики. Она основана на надежде, что сильный – это я. Или я как-то к нему могу присоседиться, быть частью, получить работу в госкорпорации. Когда это потерпит крах, страшно себе это представить. В итоге ты окажешься несильным сразу и внешнеполитически – потерпишь унизительное поражение, и внутриполитически – столкнешься с распрями, террором, и воинствующие группировки уж тебя-то, обычного обывателя, точно раздавят как букашку.
– Как биолог, как популяризатор науки, как вы считаете, человечество обречено воевать всегда или мы выработаем когда-нибудь механизм, который сделает войну постыдной, невозможной, преступной?
– В человеческой природе есть инструменты сотрудничества, кооперации. Биологи говорят, что человек – самая дружелюбная обезьяна по отношению к тем, кого считает своими, даже к чужакам, с которыми выявлены общие интересы. При этом человек всегда был беспощаден к тем, кого считал чужими, опасными для своих. В каждой цивилизации для уничтожения чужих использовался весь максимум кинетического потенциала этой цивилизации. Мы надеялись, что в XXI это будет не так. К сожалению, надежда не оправдалась. Но болеть разными вирусами – это тоже часть жизни. Есть цивилизация, разум, чтобы создавать вакцины и противовирусные препараты. Очень хочется надеяться, что цивилизация возобладает. Для начала нужно разоружить и подавить агрессора – в интересах всего мира. Каждая страна должна рассматривать войну в Украине, как если бы она происходила на ее территории.
Мы помним, как цивилизованный мир проглотил нападение на Грузию, аннексию Крыма. Путин же говорил, что мы будем тренироваться в Сирии – для чего? Разные источники показывают, что идея нападения на Украину возникла за 15 лет до 2022 года. Логика эскалации приводит к войне. Путин всю дорогу поднимал ставки. Сначала сажают единиц, потом круг пошире, сначала на два года, теперь на 25. Сначала нападает на Грузию, воюет в Сирии, а потом нападает уже на большую страну с крупной армией. Все такие лидеры интуитивно нащупывают инструмент, который будет работать. Их путь предначертан, у него своя логика, своя инерция. Это консолидация полицейского государства, которому нужен "внешний враг", чтобы мобилизовать и подавить общество.
Важно, что сейчас помощь Украине недостаточна, но она все-таки очень мощная, Европа не испугалась замерзнуть, не испугалась, что придется "мыться собаками", ничего этого не произошло. И она быстро переходит на другие энергоносители – это очень важный фактор. Пока что реакция мира консолидированная – это очень важно. Вместе с тем Россия успешно обходит санкции. Сейчас все сильно зависит от того, как будут развиваться события на фронте.
– Эта война изменит нашу память о той войне?
– Память – это в первую очередь вопрос о том, какие уроки извлекаются. Казалось бы, опыт Мюнхенских соглашений должен был дать нам прививку от идеи умиротворения агрессора. Но через 70 лет, в 2014 году, большинство цивилизованных стран повели себя, мягко говоря, оппортунистически. Может, в этот раз они сделают вывод.