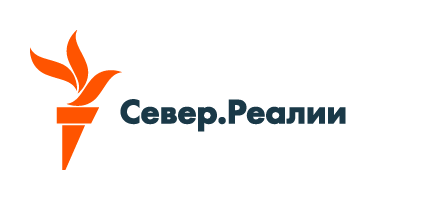2023 год многие встречали с надеждой на то, что российское вторжение в Украину закончится. Просто потому, что "это не может продолжаться долго". Однако этим надеждам не суждено было сбыться. И более того, бежавшие от войны россияне оказались свидетелями других войн – на Кавказе и на Ближнем Востоке. Как на этом фоне осмыслить происходящее, не потерять себя и в чем найти надежду, вступив в новый, 2024 год? Эти вопросы корреспондент Север.Реалии задал двум литераторам – Дмитрию Коломенскому и Вадиму Жуку. Первый смотрит на происходящее сейчас из Израиля, а второй – из России. И оба они встретили Новый год в воюющих государствах.
"Мира надо было желать до войны"
– Главное событие года для сегодня – в том, что к одной войне добавилась вторая, – говорит Дмитрий. – Но если от первой войны мы быстренько дистанцировались, то от второй войны мы предпочли не бежать. Мы находимся здесь и не планируем никуда уезжать. Хотя, может быть, это объясняется в первую очередь тем, что пока наш город Хайфа не пострадал – есть отдельные взрывы и перехваты вблизи города, но все-таки это не то, что делается в центре страны или на юге. Но и в случае опасности, думаю, что семью я бы еще, может, куда-то отправил, но сам никуда не хочу уезжать.
– Интересно, почему так, ведь родина все-таки Питер, а не Хайфа?
– Потому что в случае с первой войной мы географически находились на территории несомненного агрессора и никак не хотелось в этом участвовать. А во втором случае я считаю, что война Израиля справедливая, потому что именно Израиль подвергся нападению, причем немотивированному. Я прибыл сюда и получил значительную помощь от государства, какую не получил бы ни в одной другой стране. И мне кажется, что нечестно покидать эту страну, когда здесь стало плохо, вернее, опасно.
– Вы филолог, а работы по специальности у вас нет.
– Сначала я был уборщиком, все с этого начинали, потом работал высотным облицовщиком, висел в люльке на высотках. Теперь я уже, можно сказать, приблизился к культуре, я теперь разнорабочий при местном клубе: для культуры много чего надо – починить розетки, покрасить стены, натянуть потолки. Я вообще считаю, что плох тот филолог, который не может работать кем угодно. Истинная, отличительная черта филолога – он должен писать грамотно. Все остальное прикладывается к ситуации.
– Дает ли вам что-то эмиграция? Верно ли расхожее выражение, что это вторая жизнь?
– Если сравнивать в абсолютных величинах, то, конечно, я потерял круги общения. Хотя часть круга общения переместилась сюда. Но я потерял сферы приложения, накатанные пути, по которым происходило приложение моих усилий. Потерял непосредственный контакт с родственниками, с друзьями, которые остались в России. Несмотря на то что в Израиле русскоязычная среда очень велика, но все же это некий замкнутый объем. Но при этом, опять же, не в абсолютных величинах, а в конкретных и частных, я приобрел возможность свободно говорить. Для меня это очень важно. Как и не находиться на территории страны-агрессора. Таким образом, ни у кого не должно создаться впечатление, что я хоть в какой-то мере поддерживаю то, что творит Россия сейчас.
– Получается, что теперь вы следите и за двумя войнами, и за тем, что происходит в России, то есть связь никуда не девается.
– Видимо, в этом разница между мигрантами, которые ехали искать лучшей жизни, и теми, кто уехал недавно, но считает, что завтра все вернется на круги своя и мы вернемся в ту страну, к которой мы привыкли. Нет, там все будет по-новому. Но я не думаю, что это случится скоро. Поэтому я живу здесь, погружаюсь во все бытовые нужды. А сейчас, к счастью, благодаря новой работе, появилось больше времени для стихов, и это меня радует. В прошлом году у меня было чувство новизны. Ты входишь в новый мир, как в детстве, ты его исследуешь, составляешь о нем впечатления. Но сейчас это чувство уже поиссякло. Не знаю, стал ли я взрослым в местной жизни, но этого детского ощущения больше нет. Если угодно, это личный итог года. Я думаю, это закономерно, он такой у многих.
– Если адаптация к новой жизни – это личный итог года, а общественный – вторая война, от которой вы решили не бежать, в отличие от первой, то как вы смотрите на перспективы этих войн, с какими чувствами?
– Я не желаю сейчас людям мира. Мира надо было желать до войны. И надо будет желать после войны. А когда война состоялась, в ней нужно побеждать.
– В связи со всеми сегодняшними ужасами всегда возникают мысли, а зачем вообще мы что-то пишем, если такое происходит…
– Я когда-то давно понял, что я не хочу вникать в природу творчества. Поэтому меня эти мысли – можно ли писать стихи после Освенцима – не посещают. Я придерживаюсь той точки зрения, которую заявил наш общий учитель Вячеслав Лейкин, что поэзия – дело физиологическое. Пока эти творческие, физиологические отправления у меня существуют и даже стали достаточно частыми. У меня бывали периоды, когда я писал одно стихотворение в полгода. Сейчас я не заглядываю вперед, пишется и пишется. Единственное, что я никогда не пишу, если меня ничто не волнует. Если стихотворение появилось, значит, что-то меня так или иначе тронуло. И в результате что-то появилось.
– У вас не было ощущения, что поэзия последние десятилетия пишет сама для себя, играет в игры для посвященных, но вот, случилось потрясение, которое возвращает нас к первоначальному смыслу искусства, обращенному к человеческой душе?
– Нет, у меня другая версия. Мне кажется, что не столько потрясение, сколько личности творцов могут на что-то влиять. Мы это видим сейчас по Z-поэзии: казалось бы, они рассчитывали породить некоторую волну, но ее не породили. Хуже того, те, кто писали прилично, стали писать хуже. Антивоенная поэзия получила подпитку, но это вынужденная вещь. И опять же, мы видим, что люди талантливые пишут талантливые стихи. Люди менее талантливые, какой бы правильной, с моей точки зрения, позиции ни придерживались, пишут очень посредственные стихи, которые стыдно читать.
– Вы знаете, конечно, что в России начали запрещать книги?
– Ну, что тут скажешь, это мракобесие и абсолютное гадство. Я вообще считаю, что главная функция Путина – растление. Он растлитель. И получив рычаги на уровне главы большой сильной страны, он растлевает и население этой страны, и тех, кто находится за ее пределами, то есть он просто получил больше возможностей для этого деструктивного действия. Создать он ничего не может – отсюда все эти запреты. Да, это меня раздражает, потому что это не только удар по настоящему, по сегодняшей культуре, конечно, это огромные шрамы на территории будущего. По крайней мере, на территории России. При этом я воспринимаю это не как что-то качественно новое, весь вопрос только был в количестве.
– А ритуалы публичных извинений и унижений так называемой элиты – это не кажется новым?
– Совсем не кажется, это еще один шажок в ад, мы же помним, как каялись враги народа на сталинских процессах – это примерно то же самое, то есть мало того, что враг или противник должен быть обезврежен, он должен быть еще раздавлен и унижен. К нему не должно быть никакого сострадания, потому что видно, как он валяется в грязи. Но это тот же самый метод, который был в 1930-е годы.
– Какие надежды у вас на будущий год?
– Главная надежда, что прекратятся эти войны, что они завершатся победой Израиля и Украины. Под победой Украины я понимаю не захват России, этого не будет, а то, что Россия получит отпор и не сможет в дальнейшем повторить то, что она учинила. Возможно ли это – не знаю. Но надеяться никто не запретит.
"Остров разочарования"
– Я бы назвал этот год островом. Островом разочарования. Каждый раз, при каждом временном сломе у меня, крайне оптимистичного человека, совершенно естественная надежда: что-то будет по-другому, повернется в нормальную человеческую сторону. Но главным для меня стало потрясающее количество разочарований, которых в минувшем году было больше, чем всегда, – говорит Вадим Жук.
В списке его разочарований – коллективные письма в поддержку преследуемых государством. В прошлом году Вадим Жук и сам подписал несколько таких обращений, а сегодня они представляются ему в виде "огромного катящегося нуля": российская власть эти письма не читает – "усмехнется и отложит сторону, как делал какой-нибудь николаевский чиновник", а то еще и переловит тех, кто подписывал, так что письмо превращается в коллективный самодонос. Девальвацию института коллективных писем Вадим Жук связывает с девальвацией понятия авторитета.
– Идут подписи доктора экономических наук, народного артиста, заслуженного летчика, великого ассенизатора – и все в ноль. Авторитеты в этом году рушились, как карточные домики из дешевых офсетных карт. Самые укорененные люди легко теряли свои позиции. Их объявляли кем угодно, выгоняли из театров, выбрасывали их книги из библиотек. Пугачёва и Ахеджакова казались неприкосновенными – народ был влюблен в крошечную Лию, из который бил источник человечности, любви, живого сердечка. И где теперь Ахеджакова в сознании народа? Ага, сказал народ, вот она какая. Пугачёва была недосягаемой королевой – и где та Пугачева? Каждая шавка может ее лягнуть наманикюренным копытцем. И ученых выбивают, хотя давно понятно, что от науки зависит простая человеческая жизнь. От этой жизни остается все меньше – нет людей, которые эту жизнь организовывают.
Еще одно знаковое событие года, по мнению Вадима Жука, случилось 30 ноября, когда все ЛГБТ-сообщество в России объявили практически вне закона.
– Я дружил с замечательным сексологом Львом Щегловым, он мне рассказывал, сколько в мире людей с такими наклонностями, впрочем, эти данные и так известны. Господи, я нормальная хихикающая дрянь, которой, конечно, многое в этой сфере забавно, смешно. Что ж, человек другой нации, другой ориентации – это всегда другой, настороженное отношение к другому – в человеческой природе, и нужно усилие, чтобы победить это в себе. Я не всегда способен на полноценное усилие. В этом году государство мне очень помогло. Оно мне объяснило, что это – плохие, возникшие под влиянием Запада, а не природы, которая иногда как бы делает шаг в сторону – и заодно дает миру великих людей, художников, музыкантов, актеров. Да, это другие люди, и они часто создают для нас совершенно другой мир, в который, наверное, не стоит лезть грубыми руками.
Вадим Жук вспоминает постановление ВЦИК 1933 года об уголовном преследовании мужеложства и с печалью говорит о фактическом возрождении этого закона в 2023-м – "чтобы еще какую-то группу населения прищучить, придавить".
При этом, отмечает Вадим Жук, все репрессивные постановления российские власти оправдывают так называемыми "традиционными ценностями".
– Мы по традиции достали сохранившийся в какой-то библиотеке Ивана Нулевого "Домострой" и стали в нем рыться. Мне очень хочется спросить: какие вы имеете в виду традиции? Простыню выносить наутро после свадьбы? Падать в прорубь на Крещение? Какие, собственно, традиции? Ну, да, авторитаризм в любой, даже мелкой области. Жена может больше зарабатывать и везти на себе семью, но муж твердо знает, что он самец и что он главнее. Сюда же я бы добавил бесконечный разговор об исконных землях, сейчас он опять возбух. Хотя что такое исконные земли? Где доказано, что сюда пришли именно эти люди? Где тот кон, из которого они вышли? Желтоволосые с голубыми глазами, как писал про себя Есенин. Эта исконность достала, куда ни кинь, всюду исконное. А Чукотка – тоже исконная? Одно из наиболее потрясших меня за последнее время чтений – это то, как русские казаки жестоко завоевывали Чукотку, всех подряд убивая и отнимая добытые чукчами шкуры.
Любые моменты собственного бытового благополучия в этом году были отравлены бесконечными сообщениями о новых политических заключенных, приговоры которым выносили "зевающие судьи", говорит Жук.
– Вот, например, две молодые женщины, очень талантливые и симпатичные мне, Евгения Беркович и Светлана Петрийчук. Я тут пошутил на одной высокой сцене, что сейчас деятели театра побаиваются получать "Золотую маску", потому что последствия могут быть непредсказуемыми, наименьшее – домашний арест. Ведь эти женщины – лауреаты самой высокой российской премии "Золотая маска". Но никакая маска не спасет, сдерут ее с тебя и заставят показать твое подлинное лицо "террористическое". Такие дела – это подлость, учитывая еще Жениных приемных детей, которым без нее очень плохо. Да, раньше ссылали Лермонтова повоевать на Кавказ, ссылали Пушкина в деревню, но чтобы вот так сажать безо всяких обоснований чисто за литературу, за спектакль? Это было для меня одно из важнейших потрясений года.
Среди важнейших событий года Жук упоминает и запрет в России книг Дмитрия Быкова и Бориса Акунина.
– Акунин умница, написал уже с прелестной иронией, что беспокоится за судьбу Певцова, Машкова, сыгравших в сериале, снятом по его книгам. Быков – потрясающий талант. Все, никакого Быкова в России больше нет. В 1987 году я писал, что "…лекарство одна лишь бумага, неужели надеяться нам, что нас вылечит "Доктор Живаго"?" И вновь отмена авторитетов и запрещение книг и фильмов идут друг другу навстречу.
Одно из сильнейших разочарований ушедшего года, продолжает Жук, – реакция мира на резню в Израиле.
– Антисемитизм для меня всегда был тем же, что и расизм в отношении африканских народов или враждебность русских к выходцам из восточных стран, где жарко и носят тюбетейки и халаты. Но сейчас именно антисемитизм вылез на передний план: евреи решили обороняться, смотрите, как им не стыдно! – говорит Жук. – И что выдумывают в ООНах? Что нельзя заливать водой туннели, откуда выползают змеи хамасовской ненависти. От этого можно двинуться умом. А пропалестинские выступления западных интеллектуалов в университетах меня просто убили. Я доверял Западу, который так гордился политкорректностью – как же можно было перечеркнуть политкорректность именно в этом отношении?
Подводя итоги года, Жук вспоминает и про эпидемию доносительства, охватившую Россию.
– Я различаю доносчиков, стучащих для удовольствия, и корыстных – стучащих, чтобы занять место человека, которое тот снискал талантом и трудолюбием. Я в принципе очарованный странник по жизни. Мне очень хочется быть очарованным. Я готов любить изо всех сил. Мне покажи палец, я скажу, что это Эверест. И я хочу сохранить в себе в своих преклонных годах умение удивляться и радоваться. А меня разочаровывают, разочаровывают, разочаровывают. Узаконение беззаконного идет лавиной. И этот год в этом смысле чемпион. Год разочарования.
И как тут не вспомнить бесов – и в пушкинских текстах, и у Достоевского: "вьются бесы рой за роем". Но ярче всего иллюстрирует сегодняшний день Салтыков-Щедрин, описавший матрицу российской жизни и власти. Вот самая главная и самая страшная для меня фраза в "Истории одного города": "Не скажешь, что́ тут горит, что́ плачет, что́ страдает; тут все горит, все плачет, все страдает... Даже стонов отдельных не слышно". И в этой ситуации пушкинская "тайная свобода" перестала уже меня устраивать – она стала почти синонимом "постороннести", неучастия. Внутри-то себя я свободен, но только я лучше помолчу, не пойду, не подпишу...
Незадолго до Нового года Вадим Жук написал на своей странице в фейсбуке: "Я родился в начале сорок седьмого. Ленинградская зима. Разбитые дома. Только-только отменили карточки. Одно за другим затеваются жуткие неправдашние дела и процессы. Времена культа страшной личности на всех своих ядовитых парах мчатся к концу. Но скольким ещё предстоит сгинуть, быть уничтоженными, раздавленными.
… Шесть лет я прожил при Сталине. "Это ем это пью это Сталину даю”, – говорили во всех песочницах победившего Советского Союза.
Потом трудное вытаскивание ног из жуткой трясины.
Потом повторение с меньшим размахом пыточного колеса.
Потом имитация недолгой свободы.
И вот сегодня.
С отдельной цивилизацией.
С неслыханным лизоблюдством.
С какими-то поддельными инициативами.
С гибелью всерьез отличных людей.
Голова не может вместить узаконенной лжи и подлости. … Призывы делать свое дело и помалкивать в пропитанную кровью тряпочку не проходят.
Надо же разобраться с самим собой!
Я стою на мосту, написанном норвежским гением Эдвардом Мунком.
Я кричу в абсолютную разреженную пустоту, в разрезанную бандитской заточкой атмосферу.
Я хочу в 47 год. За день до своего рождения. Кот и Дрозд! Спасите меня".