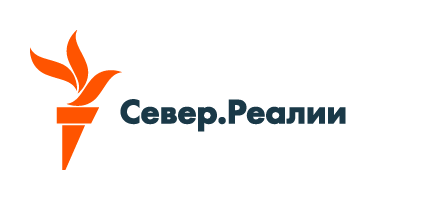В России завершается "год Александра Невского". Наступающий 2022 год станет годом 350-летия со дня рождения Петра Великого. Российские власти продолжают искать обоснование своей нынешней внутренней и внешней политики в героях и событиях прошлого, бесконечных "войнах памяти". Почему им так важно монополизировать историческую память и могут ли исторические познания помочь в прогнозах на будущее – об этом корреспондент Север.Реалии поговорила с историком Львом Лурье.
– Пытаясь понять нынешнее время, мы часто сравниваем его с прошлым – кто-то вспоминает 1937-й, кто-то брежневский застой. Какие исторические аналогии кажутся вам более уместными?
– Больше всего это время, наверное, похоже на 1852–1853 годы, мрачное семилетие, движущееся к Крымской войне, время Николая Первого. Еще его часто сравнивают, и это правильно, со временем Константина Устиновича Черненко – размещение "першингов", ракет среднего радиуса действия в Европе. Это был ответ на наши ракеты и следующий после Карибского кризиса апогей "холодной войны".
– А чем наше время похоже на николаевское – удушением свобод, цензурой?
– В 1848 году начались революционные события во всей Европе. Это был конфликт с идеями Священного союза, с тем, что все должно быть недвижимо. Как сказал Николай Первый офицерам, войдя на бал в Зимнем дворце: "Господа, седлайте коней, во Франции революция". И вот, Россия посылает войска на помощь австрийцам, чтобы подавить венгерское восстание, параллельно ищет иноагентов в России. Николай Первый считал, что существует всемирный заговор, целью которого является, конечно, сотрясение обители добра Российской империи. Арестован Петрашевский по меньшим основаниям, чем людей арестовывают сейчас. Как известно, Федора Михайловича Достоевского приговорили к расстрелу за то, что он читал вслух письма Белинского к Гоголю, основная мысль которых заключается в том, что нам не нужно никаких западных законов, а надо исполнять те, которые у нас есть. Салтыков отправлен в ссылку, Тургенев – в имение. Цензура не только правит тексты, но и указывает авторам, как их писать. Поэтому это и называют мрачным семилетием.
– Это очень хорошо цензор Никитенко описал в своих воспоминаниях. Он писал ведь не только о разнообразных притеснениях свободы слова, а о самой удушающей атмосфере.
– Да. Чудовищная тяжелая атмосфера, остаются только "единоросс" Тютчев и абсолютно аполитичные Майков и Фет.
– Никитенко писал о некой поэтессе, дворянке, написавшей поэму о том, как жена освобождается от злого мужа. Это прочитали как намек на отношения России и Польши, ее сослали в деревню, и больше ее не видел никто и никогда.
– Я не думаю, что такие люди исчезали бесследно, все-таки тогда "Новичка" не было, но, в общем, было понятно, что ни одна голова не поднимется. В некотором смысле это большой урок для русского самодержавия, потому что на этом фоне Россия начинает Крымскую войну – как очередную войну с Турцией, а ведь русский турок всегда бивал. Мы думаем, что легко получим ключи от святых мест, а то и поставим крест на Святую Софию, а заканчивается это все поражением в Крымской войне.
– И от этого уже не оправиться.
– Да, и уже приходится прибегнуть к перестройке.
– Вы видите в будущем хотя бы какие-то намеки на такой сценарий?
– Я абсолютно убежден в этом сценарии. Я не уверен, что он произойдет сейчас, но в принципе, конечно, в конце концов все пойдет по этому сценарию. Повторится, некоторым образом, то, что мы с вами наблюдали в конце 1980-х годов.
– Что об этом говорит – милитаризация всего и вся?
– Дело не в милитаризации, а в излишней самоуверенности. Единственным вариантом движения являются внешнеполитические успехи, а внешнеполитические успехи в борьбе со всем миром сомнительны. Боюсь, что Владимир Владимирович потерял присущую ему осторожность.
– Закусил удила? Держит Бога за бороду?
– Да. И мне кажется, что это может быть излишним риском для созданной им системы.
– Но пока ему как-то все удается. Вот что ни задумает, все в его пользу оборачивается, есть такое ощущение?
– Он замечательный тактик на самом деле. Если он видит слабину партнера, то он эту слабину дожимает. Но проблема заключается в том, что действие равно противодействию. И если размещать ракеты среднего радиуса действия, как это делали Андропов, Черненко и Брежнев, то ты получишь ответ в виде таких же ракет в Европе. Если ты угрожаешь уничтожить Турцию и нарушить баланс сил на юге (в Иране, в Черноморье и Средиземноморье), то ты получаешь в ответ английский и французский флот, как это было в Крымскую войну. Мне кажется, что наша внешняя политика преувеличивает слабость и неспособность сопротивлению наших, как говорил Владимир Владимирович, партнеров.
– Обозреватели любят теперь задавать риторические вопросы – способны ли наши западные партнеры собраться, объединиться, и вообще, посмотрим, кто кого. Многие сегодня говорят о потерянном боевом духе Запада.
– Я читал это в конце 1970-х – начале 80-х годов, если вы помните выступление Солженицына о слабости западной демократии. Мы видим, что Александр Исаевич был не прав. Но Запад прибегает к показыванию мышц и всего прочего уже в самом крайнем случае – это ясно. Этим они от нас отличаются.
Да, Мюнхен, Ялта показали – бывает, что они идут на уступки. Но потом следует объявление войны Германии после вторжения в Польшу или длинная телеграмма Кеннана (телеграмма посольства США в Москве от 22 февраля 1946 года о невозможности сотрудничества с СССР. – СР ), то есть все-таки всему есть барьер. Так что эта российская политика очень рискованная. Я надеюсь, что у нас, естественно, не будет войны в январе-феврале, но это означает, что Путин, заявив очень нереалистическую позицию, отступит. Я не уверен в том, что наши войска, наконец, возьмут родной нам город Харьков.
– Он же сам как-то сказал очень откровенно, что "нам удалось создать напряжение среди наших партнеров и надо его удерживать".
– Да, меня поразила откровенность этой фразы, но внушила некоторый оптимизм, то есть это все-таки пока только пугалки. Но пугалки рискованные, ведь для того чтобы пугалки были пугалками, они должны выглядеть страшно.
– Похоже на очередную чекистскую разработку, какими они всегда занимались.
– Наверное – да, конечно, чекистскую, бандитскую, любую силовую. И эти видимости иногда работают – в том случае, если фраер отступает или идеологический враг боится попасть на зону. Поэтому Путин пользуется тактикой, которая часто приносила ему успех. Ситуация довольно тяжелая, на самом деле, потому что так называемое путинское чудо прекратилось уже в 2008 году. Постепенно – все-таки инерция этого разбега была очень большая, думаю, что заданная даже не путинским чудом, а реформами Гайдара. Страна реально поменялась, цивилизационно поменялась. Условно говоря, Москва живет не хуже, чем Берлин, а Петербург – не хуже, чем Варшава. Это важное достижение. Но проблема заключается в отсутствии динамики, а велосипед едет только тогда, когда крутятся педали. И перед ним встает эта задача. Он или они нуждаются в любви, а любовь эта не приходит, а, наоборот, с ковидом, да и со всем прочим уменьшается. Она в таком русском стиле, то есть калинычи становятся хорями. Русский человек, благодаря нашим континентальным политическим условиям, столетиями учится обманывать начальство. И он как-то минимально изображает лояльность, а в сущности, думает, как бы себе лучше сделать. Это, конечно, уменьшает управляемость, и любви этой нет. Последняя любовь была, по-видимому, связана с Крымом. Поэтому если ты хочешь праздника, то тебе надо как-то привлечь внимание. Война – это один из способов, к сожалению, привлечь внимание, поэтому все это можно рассматривать как большой мобилизационный план. Деньги они не тратят, копят на случай конфликта. Потенциальных врагов, пятую колонну, которая будет возражать против войны, окорачивают и отправляют в места не столь отдаленные. Могу предположить, что вся история с сертификацией "Спутника" – это не вина ВОЗ, а наша сознательная политика.
– А в чем она состоит?
– В закрытии границ. Чтобы правительство и соответствующие органы сами решали, кому ехать в Израиль к тете Хае, а кому оставаться здесь.
– Чтобы не убежали, например, люди призывного возраста?
– Да, да, да. Это такие неприятные признаки, такие меры могут вводиться. Здесь разные проблемы, но, конечно, главная задача заключается в том, что начальство понимают, что действительно будут введены очень жесткие санкции. И это, конечно, скажется на уровне жизни населения, прежде всего, нас ожидает резкое падение рубля, исчезновение огромного количества потребительских ценностей, к которым мы привыкли, все, что связано с техникой, большая часть продовольствия. И непонятно, сколько это можно выдержать, если не будет каких-то оглушительных побед и не добудем новые компьютеры и бананы в Варшаве.
– Вы считаете реальностью такой сценарий?
– Я боюсь, что это допустимый сценарий, это то, с чем приходится считаться. Не знаю, вероятность этого фифти-фифти или процентов на 80, но это не 3 процента.
– И это именно для поддержания любви?
– Думаю, что – да, для поддержания любви.
– Чтобы не возникало этих противных вопросов о выборах, о смене власти?
– Я даже думаю, что для власти это не главные вопросы, поскольку население, скорее, волнует воровство, отсутствие социальных лифтов, устройство сынков начальников на высокие позиции и так далее. Я не думаю, что большое количество людей видят, что с помощью демократических процедур можно что-то улучшить. Но вот эта очевидная несправедливость, расхождение между тем, что говорят, и тем, что есть на самом деле, которое становится все больше, это, конечно, людей раздражает. И перспективы, которых нет. Чрезвычайно важно, что все-таки мы пережили очень динамичное время, а теперь оно дико статичное. И я бы сказал, что это против харизматиков, против тех, у кого в ранцах лежат маршальские жезлы.
– А такие всегда есть.
– А они, собственно, и делают революции. Большевики – это именно такие люди, условно говоря. И необязательно они хорошие, они разные. Люди вроде Ленина и Навального принадлежат к одному типу. Это люди, которые считают, что они могут управлять государством. И нарастание слоя, не получающего никаких вариантов для жизни, конечно, строю угрожает.
– Но тут положение-то безвыходное, потому что цель строя – устроить сынков и зацементировать сословие.
– Да. Я думаю, то, что говорил в свое время Патрушев о дворянстве, они воспринимают серьезно.
– И тем самым говорят всем остальным – не рыпайтесь.
– И тем самым говорят всем остальным, что вы тягловое сословие. Так же как в Петровское время, и сейчас, конечно, есть способы выслужиться из рядового в поручики, условно, стать охранником Путина. Но это очень узкая и понятная траектория, хотя ясно, что молодые люди из провинции поступают куда? Они поступают в школу милиции, в военные учебные заведения. Это, может быть, единственный вариант пути наверх.
– Узкие врата.
– Очень узкие врата! Тем более, я знаю из разных соцсетей, что и в армии эти молодые люди, которые туда поступают, сталкиваются с тем, что было и в советское время: полковник – это сын полковника, генерал – сын генерала. Эти сети влияния действуют и в силовых структурах. Вспомним 1990-е годы, если бы, условно говоря, не разные борисы вишневские, то Владимир Владимирович закончил бы свою карьеру подполковником и сейчас, если бы был жив и здоров, выращивал бы на участке овощи в парниках. Собственно, они все дети перестройки. Еще раз говорю, события, которые произойдут неизбежно, по крайней мере, наверное, на ваших глазах, они совершенно необязательно означают, что выдвинутся морально лучшие. Но новые путины, вишневские и гайдары где-то сидят. Им сейчас под 40, может быть, к 50. Условно говоря, те, кто выиграл в результате перестройки, им 60, это поколение бандитов и бизнесменов, которые изменили ландшафт.
– Может, даже люди от 60 до 70...
– Да, и мои сверстники, то есть Путин, Патрушев и прочие. А тем, кому 40 – это поколение первого выпуска нашей 610-й гимназии, у них уже таких карьер нет, и это вне зависимости оттого, какие у них политические убеждения и из каких семей они происходят.
– Вы сказали о сословности в армии и о том, что Петербург и Москва живут хорошо. Заметили ли вы спор Олега Дерипаски с Эльвирой Набиуллиной, он же ведь касался всей России – развивать только города-миллионники, только Москву и Питер, и махнуть рукой на все, или все-таки поднимать все регионы. Это важный спор, по-вашему?
– Я не понимаю суть этого спора, дешифровать мне его трудно. Совершенно понятно, что такое положение дел связано с разными вещами. С одной стороны, это идея безопасности, ведь и в советское время в Москве продавали значительно больше продуктов, чем в России. Потому что если что-то произойдет, то оно произойдет около Белого дома или около Мариинского дворца. Поэтому большие города с точки зрения безопасности следует подкармливать, а что там происходит в Орске, Копейске или Боровичах, не так важно. Ну, и я не вижу никаких возможностей что-либо поднимать. Подниматься будет в том случае, если дадут свободу поднимать. Даже не вкладывать нужно в экономику, а нужно не мешать. Мне кажется, что наш город, несмотря на Беглова и прочих, все равно развивается.
Просто видно, как появляются новые неофициальные или частные музеи, галереи, книжные магазины, кафе. Люди реставрируют за свой счет свои парадные. Город становится все более европейским. Он мог бы это делать быстрее, но это происходит очень медленно. Главное, чтобы государство не вмешивалось. Сколько денег ни дашь, условно говоря, управлению культуры, от этого чакры лучше не станут.
– А как вы видите ближайшую перспективу – наверное, все то же закручивание гаек?
– Да. Мне кажется, что сейчас настолько важнее внешнеполитический сюжет – что все это общий тренд, то есть мы все еще в мрачном семилетии. И именно из-за того, что ставки так повышаются, понятно, что развязка близко. Это зависит от ближайших месяцев.
– Вы говорили, что игра опасна – а во что она может вылиться для России? Если представить самый мрачный сценарий, чем это все может грозить, кроме жестких санкций?
– Многими неприятностями. У нас, на самом деле, есть Кавказ, который никуда не девался, и то, что говорил Александр Николаевич Сокуров, это правда. Но проблема эта так просто не решается. Это всегда кровь, это всегда столкновение, это всегда недовольство, потому что развал любой империи травматичен. Конечно, встанет вопрос правопорядка, как масса послаблений дисциплины будет действовать. Конечно, встанет вопрос имущественный – а что делать с украденным? Ответы могут быть самыми радикальными, так что мы можем вспомнить 1917-й год.
– Фонарей хватит.
– И фонарей хватит, и каких-нибудь инородцев можно прихватить под это дело. Много есть разных вариантов. Вот это закручивание гаек опасно в том смысле, что не остается никаких промежуточных сил, которые могли бы, что называется, посредничать. Радикализируется и оппозиция, и властная элита. Из людей, принимающих решение, уходят кудрины и грефы и приходит все больше патрушевы и сечины.
– То есть ястребы?
– Да, государственники, ястребы, силовики – люди, мало понимающие в экономике.
– И экономике тогда приходит кирдык.
– В каком-то смысле – да. Все-таки Владимир Владимирович работал премьер-министром, что-то он в этом понимает.
– Вы сказали, что оппозиция радикализируется, но, кажется, что сейчас она уже настолько загнана под асфальт, что ее практически нет. Поуезжала масса народа, кому радикализироваться-то?
– Это правда, но опять же у нас на памяти время, когда Солженицынский фонд был разгромлен, Хельсинкский комитет разгромлен, Сахаров был в Нижнем, Солженицын – в штате Вермонт. Ничего – появились новые.
– Но с другой стороны, известно, что перестройка все-таки была сделана сверху.
– Ну, наверное. Я надеюсь, что и будущая перестройка будет сделана сверху. Желательно, чтобы это было сделано малой кровью.
– И есть надежда?
– Абсолютно есть, никаких сомнений, перетерпим.
– Сейчас Дмитриев, с которым жуткая история продолжается, очень выразительное послание из тюрьмы передал. Сказал, что понятно, какое время наступает, что надо воспитывать соответствующим образом детей, вести себя осторожно, сохранять архивы и людей (именно в этом порядке), доставать с антресолей старый приемник и покупать достаточное количество батареек к нему. Вы согласны с этими советами?
– Это разумно, это не лишнее.
– То есть и приемники старые нам понадобятся?
– Не уверен, что понадобятся, но это надо иметь в виду.
– А если вспомнить про "Мемориал" – видите ли вы что-то подобное удушению "Мемориала" в нашей истории?
– Да, сплошь и рядом. Я просто не знаю, чего мы не удушали – снятие Твардовского с главных редакторов "Нового мира", обвинение Корогодского в гомосексуализме – такого у нас масса, вся наша история из этого состоит. Но я надеюсь, что все же какой-то из "Мемориалов" запрещен не будет. У них все-таки довольно сложная зонтичная структура. Бумажки никуда не денутся, и главное, что большая часть из них уже есть в памяти компьютеров. Кроме того, предположим, закроют они "Мемориал". Что, эти люди перестанут заниматься этим? Что, все эти книги, которые вышли, будут уничтожены, переведены в спецхран? Это же невозможно.
– А то, что сейчас фактически опять закрыли архивы и опять засекретили имена палачей – это навсегда?
– Это такие детали… Палачи померли – это такой заочный Нюрнберг. С архивами довольно сложно. На самом деле, открытие архивов в начале 1990-х годах дало нам прибавку в знании в 10 процентов. Уже в "Архипелаге ГУЛАГ" все сказано. Условно говоря, да, для чего-то, а, с другой стороны, появилось огромное количество машиночитаемых архивов, всякие домовые книги и прочее. Так что я вижу здесь неприятности очередные, вроде того, что надо в магазин в маске ходить, но я не вижу здесь реальной трагедии. Трагедия – это когда Дмитриева сажают на 15 лет в тюрьму.
– Когда приходишь на тот же "Бессмертный полк", кажется, что у нас огромная непроработанная травма. Что война, что репрессии – все горе, не проговоренное, не оплаканное.
– Значит, надо прорабатывать. Я делал и прорабатывал. И действительно у нас численно блокадная травма была даже серьезней, чем травма 1937–38 годов. Это видно по домовым книгам, я много ими занимался. Доходный дом – по табличкам "последнего адреса" видно, что репрессировано, допустим, 10 человек, а в блокаду умерло человек 200. С цифрой погибших большие сложности, потому что домоуправы были заинтересованы в том, чтобы занижать число умерших или сообщать о смертях позже.
– Потому что карточки после них оставались?
– Карточки, мебель, ценные вещи и так далее. Есть две цифры: 670 тысяч и 1 миллион 100. 1 миллион 100 – это кладбищенские цифры, потому что они получали водку и добавочный паек за перевыполнение плана. Они хотели отчитаться большим количеством покойников, а домоуправы меньшим. Видите, какой колоссальный разрыв.
– Да, но ведь еще многие умерли по дороге из эвакуации, в других городах.
– Да, конечно!
– И они нигде не учтены вообще.
– Нет, они учтены кое-где, людей хоронили же. Надо сказать, это к "Мемориалу" тоже имеет отношение: наша бюрократическая система такая, что если что-то происходит и составляется бумажка, то эта бумажка хранится в восьми разных архивах. Поэтому спрятать что-нибудь очень сложно. Существовали спецхраны. Мы опубликовали огромное количество документов из архивов, потому что они не знают, что у них где лежит. Ницше лежал в спецхране. Но если бы человек интересовался Ницше, то он с помощью 34 разных других книг практически мог все про него понять.
– Преследование "Мемориала" можно назвать одним из основных событий уходящего года или нет?
– На фоне того, что происходило с тем же Навальным или с Дмитриевым, то, что происходит с "Мемориалом", не так страшно. Конечно, это ужасно, но это еще не произошло. Конечно, колоссальное влияние на всех нас оказывает эта зараза, не только на нашу страну, и это вводит в глубокую депрессию. В этом году я вообще ничего хорошего вспомнить не могу. У меня лично в жизни были какие-то хорошие события, например, две книжки вышли, а так, да, действительно, все мрачно. Каждый день ожидаешь какого-то удара в бок от новостей. Пыточные скандалы нашей власти еще отольются, потому что это колоссальный удар по ее имиджу. И главное, что это видео... Такого рода новости увеличивают количество желающих уехать.
Владимир Владимирович Путин и его сотоварищи довольно низкого мнения о homo sapiens. И они считают, что есть некие механизмы, которые выработались в практике. Скажем, как Чечню удержать, чтобы она не расползалась? Нужен Кадыров. У него много недостатков, там время от времени кого-то убивают, но это лучшее из худшего, что можно себе представить. Ну, и тюрьма тоже. Они неисправимые. Что делать? Конечно, пытать не надо, швабры не надо засовывать, ну, а с другой стороны, куда без этого денешься? Кто туда пойдет работать? Ты, Дима, пойдешь? Нет, будешь сидеть у себя в Геленджике. И эти пыточные кадры для них не являются чем-то невероятным, это не те люди, которых можно поразить какими-то страшными натуралистическими деталями и заставить заплакать над чем-то, над кошечкой разве что.
– О чем мы должны думать, глядя за очередную календарную черту?
– Мне кажется, что важно… Антон Павлович Чехов говорил, что "у русского человека, должно быть, все хорошо с фосфором и плохо с железом", то есть талантливых людей много, а людей, которые, как Антон Павлович, каждое утро вставали и писали рассказ, мало. Мы должны делать свое дело. И тогда все будет нормально, во всяком случае, мы будем себя чувствовать как люди, которые выполняют свой долг. Надо меньше волноваться о мировых проблемах или уж совсем не мировых, которые нас окружают, а больше делать конкретно то, что у нас получается.