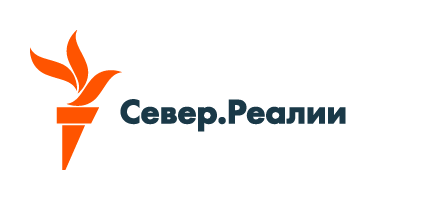Люди, умеющие летать, в первые десятилетия XX века быстро стали чем-то обыкновенным. Профессия летчика перестала в корне отличаться от профессии водителя автомобиля или машиниста паровоза. Чуть больше риска и мастерства, только и всего. Но самое начало развития авиации совпало в России с Серебряным веком искусств, и не удивительно, что первые пилоты часто сочетали в себе множество талантов.
Самый известный – поэт-футурист Василий Каменский, одним из первых решившийся сесть за штурвал шаткого "Формана". С другой стороны, остававшиеся на земле поэты с восхищением и тревогой смотрели на попытки преодолеть земное тяготение – и Блок писал свое знаменитое "Летун отпущен на свободу...". Техническая и "духовная" стихии, поэзия и аэродинамика смешивались под звук чихающих авиационных моторов, открывая перед людьми новые пространства страхов и надежд.
Николай Бруни, один из первых русских военных пилотов, несомненно, оставил свой след в воздухе. Он совершил более сотни боевых вылетов в Первую мировую, был награжден тремя Георгиевскими крестами, а позднее доработал автомат перекоса лопастей для вертолета – и эта его доработка используется до сих пор. Но среди множества других его талантов это была лишь капля в море.
Взлет
Фамилия Бруни всегда означала в России нечто художественное. Привез ее в Петербург в самом начале XIX века Антонио Бруни, итальянец по крови и швейцарец по гражданству. В русском варианте его биография выглядит весьма благородно: Антонио учился живописи в Римской академии, был членом Миланской академии художеств и бежал в Россию из-за гонений со стороны французов, подчинивших себе Швейцарию.
Но, возможно, все было совсем не так. По мнению швейцарских исследователей, Бруни был сыном гравировщика и дочери штукатура, работал на Монетном дворе в Милане и бежал в Петербург из-за обвинений в растрате казенных денег. Ах, Антонио! В любом случае, талант у него имелся и рисовал (гравировал, лепил, чертил) Бруни весьма неплохо. Потому в России он очень быстро стал Антоном Осиповичем Бруни, и сделался живописных и скульптурных дел мастером при дворе. А также положил начало одной из самых известных в России художественных династий.
Уже старший сын, Фиделио (Федор) Бруни, приехавший с отцом из Швейцарии, стал ректором Академии художеств и знаменитым живописцем, изобразившим "Медного змея" и "Пушкина во гробе". Но, как истинный итальянец, Антонио одним сыном не ограничился, и о его потомках можно сказать то же самое. Семья росла в геометрической прогрессии, и в каждом поколении в ней открывались новые таланты. В основном – художественные. Кажется, они действительно передавались по наследству, вместе с кровью (впрочем, художник Лев Бруни утверждал, что в его жилах течет акварель). К началу XX столетия среди Бруни были профессора и академики, футуристы и реалисты, архитекторы и театральные художники. Среди них не было "первых знаменитостей", мэтров и персонажей светской хроники, но в Серебряный век они, можно сказать, пришли со своим фамильным серебром.
Именно в семье архитектора, академика Императорской академии художеств, и родился Николай Бруни. Его мать тоже была дочерью академика, художника-акварелиста Соколова. При таких родителях и родословной путь сына, кажется, был предрешен: искусство, и только искусство!
Кстати, с его младшим братом Львом так и случилось, он стал довольно успешным советским художником-иллюстратором. И Николай в юности тоже уверенно шел по этой стезе: в 1901 году он поступил в знаменитое Тенишевское училище (говорят, сидел за одной партой с Мандельштамом – их дружба потом продлилась на десятилетия). За восемь лет учебы в Бруни раскрылись, кажется, все мыслимые таланты: он (конечно же!) увлекся живописью, затем поэзией и наконец музыкой. Выучил несколько языков (для выпускника Тенишевского латынь, французский и английский считались минимумом). При этом Николай меньше всего напоминал "кабинетного юношу-очкарика", он страстно интересовался новомодным футболом, даже играл за сборную Петербурга. После Тенишевского поступил в консерваторию по классу фортепиано и окончил ее за два года.
Казалось, выбор сделан. Но уже в 1911 году стихи Бруни стали появляться в петербургских журналах, и он вступил в знаменитый "Цех поэтов", основанный Гумилевым и Городецким. Вихрь богемной жизни захватил юношу, и с музыкальной карьерой было покончено. В течение пары лет заседания "Цеха" происходили у него на квартире. Правда, и акмеиста из Бруни тоже не получилось – даже друг Осип Мандельштам отзывался о его произведениях скептически, а однажды в разговоре с Ахматовой в ярости заявил: "Бывают стихи, которые воспринимаешь как личное оскорбление". Николай об этом, скорее всего, прекрасно знал, но принимал все со смирением. Поэзия, которую в его глазах олицетворяли Гумилев, Мандельштам, Ахматова и другие участники кружка, была для него важнее собственных текстов, плохи или хороши они были. Он участвовал в разговорах, страстных обсуждениях, выступлениях поэтов, восхищаясь рождавшимися на его глазах новыми строками и не выпячивая свое "я". Это, похоже, было его врожденным качеством – не скромность, а какое-то глубокое внутреннее бескорыстие, умение слушать и слышать. Дар, доступный немногим – но именно такие люди помогают поэзии выжить и обрести бессмертие в агрессивной человеческой среде.
Увы, среда эта становилась все более агрессивной, и уже в мировом масштабе. Август 1914 года положил конец "Цеху поэтов", и два Николая – Бруни и Гумилев – отправились добровольцами на фронт. Бруни пошел санитаром и в полной мере хлебнул лиха. День за днем гноящиеся раны, ампутации, стоны, смерти. 24 часа в сутки непрекращающийся кошмар. Эшелон, в котором он служил, не раз попадал под обстрелы, однажды он был ранен.
На таком же санитарном поезде работал тогда медбратом Александр Вертинский, но он продержался в этом аду только четыре месяца, потом вернулся в Москву. Бруни "безвылазно" работал санитаром больше года и успевал даже писать короткие рассказы, которые отправлял в столичные журналы. А еще, видя чуть не каждый день полеты военных летчиков, он стал всерьез задумываться о профессии авиатора – и в 1915 году подал рапорт с просьбой направить его на обучение. Потом были курсы при Петроградском политехническом институте и Севастопольская военно-авиационная школа, где в феврале 1917 года Бруни получил звание "военный лётчик" и был направлен на фронт. Вероятнее всего, на румынский, где как раз разворачивались последние сражения Первой мировой войны с участием России.
В летнем наступлении 1917 года авиация играла довольно серьезную роль, и над всей линией фронта постоянно шли воздушные бои. Численность германских (с одной стороны) и румынско-российских авиационных подразделений была примерно равной, однако у немцев машины были куда более современные. Бруни летал на уже довольно-таки устаревшем "Ньюпорте", однако, как и его румынские коллеги, имел в боях успех – и за пару месяцев боевых действий совершил больше ста боевых вылетов, одержав несколько побед, за которые был награжден тремя Георгиевскими крестами. Однако подвиги авиаторов не помогли: русское наступление захлебнулось и откатилось назад, а потом бои почти прекратились. К осени 1917 года на фронте наступило болезненное затишье. Русская армия теряла боеспособность, началось дезертирство, и немцы лишь выжидали, когда Румыния без боя упадет к их ногам.
Именно в эти осенние дни, когда полк, где служил Бруни, вернулся на свой базовый аэродром под Одессу, с ним и случилась беда. Рано утром, во время обычного тренировочного полета, на взлете заклинило мотор, и самолет, перекувырнувшись в воздухе, устремился к земле. От удара загорелся бензобак. Стрелок, с которым летел Бруни, погиб на месте. Самого его, обгорелого, с переломанными ногами, отвезли в гарнизонный госпиталь, и врачи сперва не надеялись его спасти.
Существует легенда, что именно после этой катастрофы Бруни решил стать священником. Многие писали потом об этой истории с придыханием, что, мол, Богородица ему явилась или Святитель Николай и он обещал, если выживет, посвятить себя церковному служению. Но о человеческой жизни с таким придыханием говорить, конечно, нельзя. Никто не знает, что там было. И спас ли его, как говорят, тяжелый серебряный крест, который принял на себя удар от рукоятки штурвала (она могла пробить летчику грудь), тоже доподлинно неизвестно. Так или иначе, раны и ожоги оказались не такими страшными, и через пару месяцев Николай Бруни встал на ноги. Впрочем, не вполне твердо: после нескольких операций одна нога у него навсегда осталась короче другой на 7 сантиметров, ходить приходилось в специальном ботинке на высокой подошве и с костылями. Казалось, с авиацией для него покончено.
Правда, в октябре 1917 года покончено было уже со всем – и со старой Россией, и с ее армией, и с вечерами акмеистов. Наступала новая эпоха, в которой каждому нужно было найти свое место. Бруни было тогда всего 26 лет, и чтобы понять, что происходит, он стремился вернуться в столицу.
Но и столицы на старом месте уже не было, новое советское правительство переехало в Москву, подальше от страшных германцев. А там, в Москве, жил самый дорогой для Бруни человек, его невеста Анна Полиевктова, дочь известного московского врача. В апреле 1918 года Бруни бежал из оккупированной австрийцами Одессы, а уже зимой они с Анной обвенчались и сыграли свадьбу. Причем венчание произошло на Арбате, в церкви Николы Чудотворца на Песках, где потом сам Бруни будет служить в качестве священника. Торжественный ужин проходил в доме Бальмонта, с которым дружили обе семьи. Говорят, знаменитый поэт преподнес новобрачным два посвященных им стихотворения, одно для Николая и одно для Анны. Эта свадьба – с маскарадом, концертом и даже каким-никаким угощением посреди голодающей Москвы – была будто окошком в прошлое, все на ней происходило так, как было "принято" у Бруни. Но вокруг уже сгущалась темнота, в которой ничто не напоминало о прошлой жизни. И в этой темноте нужно было нащупывать новую дорогу.
От священника до профессора
Едва вернувшись в Москву, еще на костылях, Николай явился в Управление Красного Военного Воздушного флота. Его назначили командиром по учебной части, он снова начал подниматься в воздух. Однако начиналась Гражданская война, и в этой братоубийственной бойне Бруни участвовать не хотел. В начале 1919 года, сославшись на плохое здоровье, он уволился в запас и почти сразу вместе с молодой женой отправился в Харьков.
Там служил Владыка Сергий, брат жены Бальмонта, и именно он в апреле 1919 года рукоположил Бруни в сан диакона, а уже 4 мая – в сан священника. По каноническим правилам так можно было делать, тем более что Николай прекрасно знал церковную службу и всей душой стремился теперь к церковной жизни, надеясь найти в ней покой и ясность посреди бушевавших в России страстей.
"После проповеди я зашел в келью иподьякона, и он дал мне черную рясу и кожаный пояс. Была черная теплая и ветреная ночь, и, когда я в черном одеянии вышел и вдохнул тревожный воздух, мне почудилось, что я просиял, а вокруг меня неведомые духи. И так я простился с юностью и светской жизнью", – писал Бруни в своем дневнике.
Сперва ему дали небольшой приход в селе под Харьковом, потом позвали в Москву, служить в той самой церкви Николы Чудотворца на Песках, где они недавно обвенчались с женой. Церковь в те годы уже подвергалась гонениям, но жив был еще патриарх Тихон, твердо отказывавшийся от сотрудничества с большевиками, и службы во многих церквях шли своим чередом. Шли они и в храме, где служил Бруни. Но одна из них запомнилась москвичам надолго: в августе 1921 года, в день похорон Александра Блока, отец Николай провел там заупокойную службу, которую начал с чтения стихов умершего поэта. Когда в храме зазвучало "Девушка пела в церковном хоре", многие заплакали.
"Маленькая церковь в Николо-Песковском переулке вместить всех не могла. Люди заполнили все пространство возле церкви, и счастливцы, попавшие внутрь, передавали из уст в уста на улицу слова священника. И как неожиданно вместо привычной молитвы от входа в алтарь полились чистые звуки блоковской "Незнакомки", потом еще, еще стихи, и каждая строка, произнесенная священником-поэтом, ложилась каплей горя, каплей скорби, до краев наполнявших душу Николая Александровича…" – так описывал происходившее М.Д. Трещалин в книге "Род".
Надо сказать, что Бруни был не одинок. Как минимум в Петербурге, в церкви Воскресения Христова, где отпевали Блока в день похорон, священник также начал заупокойную службу его стихами. Такое нарушение канона тогда не могло считаться серьезным злом – особенно на фоне других угроз, сгущавшихся над церковью.
В марте 1922 года патриарха Тихона начали допрашивать на Лубянке, потом посадили под домашний арест, потом в тюрьму – и продолжали то арестовывать, то отпускать до тех пор, пока весной 1925 года он не скончался при неясных обстоятельствах. Все это время в СССР набирало обороты раскольничье движение "обновленцев", обещавших выстроить компромисс между церковью и большевистской властью. Уже в конце 1922 года многие храмы, в том числе и храм Николы Чудотворца на Песках, перешли в руки "обновленческой церкви". Бруни отказался иметь с ней дело и вместе с семьей уехал из Москвы в Оптину пустынь. Но в 1925 году монастырь в Оптиной был разрушен, церкви закрыты. Тогда семья перебралась в Клин, где у Бруни еще оставался небольшой приход в маленькой часовне. Жить приходилось где попало, некоторое время приют семье давал директор музея Чайковского – и ночами Бруни с его позволения играл на рояле, принадлежавшем знаменитому композитору. А вокруг продолжал сгущаться мрак.
Церковная жизнь не позволяла прокормить семью, тем более что Николай искренне исповедовал идеалы бессребреников, он отказывался от любого вознаграждения за церковные службы и требы. Еще в Москве он, чтобы как-то свести концы с концами, пытался делать и продавать детские игрушки, а в Оптиной и в Клину приходилось жить фактически подаянием и случайными заработками. Между тем у них уже было трое детей и ожидался четвертый. Поэтому, когда в 1928 году "обновленцы" потребовали запретить его в служении и отобрали последний приход, он воспринял это почти с облегчением. Впрочем, и "обновленческой" церкви в СССР оставалось существовать недолго – вскоре почти все храмы были закрыты, и вновь открыть некоторые из них Сталин позволил лишь во время войны…
Но еще в Оптиной пустыни, судя по сохранившимся стихам, Бруни начал все больше скучать по авиации, которой посвятил юность. Конечно, вернуться к полетам для бывшего священника в ту эпоху было немыслимо. Но счастливый случай привел его в конструкторское бюро.
Однажды, приехав из Клина в Москву в поисках заработков, Бруни встретился на улице с давним приятелем по летной части, и тот сообщил ему, что в научно-испытательном институте Военно-воздушных сил РККА требуется переводчик. Бруни, прекрасно владевший несколькими языками, идеально подходил для этой работы. В 1929 году семья вернулась в Москву, ей дали две комнаты в коммуналке, а потом и квартиру. Вскоре Бруни перешел на работу в ЦАГИ, а через полгода – в институт гражданской авиации, где возглавил бюро переводов. Дальше его карьера развивалась стремительно: в 1932 году он уже был инженером испытательной лаборатории, а в 1933-м, проявив незаурядные конструкторские способности (и создав тот самый автомат перекоса винта для вертолетов), Николай стал профессором МАИ. То есть, как положено в династии Бруни, достиг почти что вершины – но не в Академии художеств, а в технической области.
Жизнь налаживалась – как налаживалась она в начале 30-х годов у многих ярких людей в СССР. То есть ненадолго.
"Свой страх они зальют нашей кровью"
В ночь с 8 на 9 декабря 1934 года Бруни арестовали. Одна из его дочерей, Татьяна, много лет спустя вспоминала:
"Помню только: вошли трое, в кожаных тужурках. Ночь, перерыли книжки, потом подходят к роялю – это тоже я помню – подняли, по струнам стали рвать, искать – опять нету. Сидели мы все кучкой на маминой кровати, Настя плакала, Алёна какая-то была совсем такая ошарашенная, ничего не понимала. А я так все сижу и слышу, как он говорит маме: – Собирайте белье, смену белья, побольше сухарей и мочалку-мыло. Можно и денег. Я тогда так говорю: "Мамочка, – она плачет, – мамочка, а почему дяденьки за папой в баню пришли ночью?". А мама так посмотрела на меня, говорит: "Доченька, очень, говорит, будет горячая, долгая баня".
За что арестовали, конечно, никто наверняка не знал. Но, как всегда, позднее вокруг ареста возникло множество версий.
Говорили, что будто был некий Жан Пуантисс, французский коммунист и военный лётчик, который приехал в СССР в 1927 году и поступил на службу в ВВС РККА. Бруни будто бы познакомился с ним в 1929 году. Со временем Пуантисс вышел из ВКП(б), потому что стал врагом коммунистического мировоззрения и хотел уехать во Францию, но был арестован. Так что дружба с ним была равносильна шпионажу. По другой версии, этот самый Пуантисс приезжал в СССР в 1934 году, абсолютно официально, с дружественным визитом, и Бруни назначили к нему переводчиком – но он несколько превысил свои полномочия и пару раз приглашал француза к себе домой, да к тому же принял от него подарки. Пуантисс благополучно вернулся во Францию, а Бруни арестовали – тоже будто за шпионаж.
Теперь, за давностью лет, довольно сложно подтвердить эти версии, поскольку нигде никаких сведений о Пуантиссе не сохранилось. Существовал ли он на самом деле – загадка. А вот то, что сразу после убийства Кирова Бруни довольно громко пробормотал в "курилке" института фразу: "Теперь свой страх они зальют нашей кровью" – об этом есть несколько свидетельств. Вполне вероятно, что кто-то засвидетельствовал ее и в НКВД. Этого было достаточно. Да и дата как раз совпадает: Кирова убили за неделю до его ареста.
Дело Бруни вёл следователь Полозов, он бил своего подследственного по лицу, говорил, что родные отреклись от него. Следствие продолжалось два месяца. 10 февраля 1935 года поседевший за считаные дни Бруни подписал признание, что "являясь врагом соввласти, с 1932 г. и до дня ареста вёл контрреволюционную пропаганду в форме антисоветских высказываний". К тому же в материалах следственного дела было записано: "Гражданин Бруни <...> из дворян, бывший служитель культа и офицер царской армии, инженер", и одной этой характеристики было достаточно для приговора.
Но все-таки было еще только начало 1935 года, поэтому приговор может показаться относительно мягким: пять лет лагерей в печально знаменитом Ухтпечлаге, на лагпункте Чибью (который позднее стал городом Ухта). Конечно, ничего мягкого тут не было – особенно если учесть, что первый год заключения Бруни провел на общих работах. Но со временем лагерное начальство, которое во все времена любило искать среди зэков что-нибудь "полезное", обратило внимание на знаменитую фамилию Бруни. Там ведь тоже были люди, слегка затронутые образованием.
– Что, художник?
– Ну, не совсем… Но рисовать умею.
– Значит, будешь художником.
Так "проклятие" художественной династии все-таки настигло Николая Бруни. Его сделали "придворным живописцем" для начальников лагерей и их жен. Правда, и простых заключенных ему тоже позволялось рисовать, и тайком записывать стихи в тетрадку. А главное, он получил освобождение от работ, что при его слабом здоровье (последствия катастрофы сказывались всю жизнь) давало шанс выжить.
В 1937 году, в год столетия со дня гибели Пушкина, в СССР повсюду шли пушкинские торжества, и начальство Ухтпечлагв не желало отставать. Бруни поручили срочно, за пару месяцев, изваять памятник поэту, причем не какой-нибудь бюст, а настоящий монумент. Материала для этого имелось с гулькин нос, всего лишь кирпичи, бетон и немного гипса. Но обладавший технической жилкой Бруни нашел выход и соорудил кирпичный каркас, из которого создал памятник. Монумент получился столь эффектным, что ему было позволено свидание с супругой. Небывалая роскошь для "политического" зэка в те времена!
21 июня Анна, оставив многочисленных детей в Москве (на момент ареста Бруни в семье было пять дочерей и один сын), добралась до Чибью и в последний раз увидела мужа. Он носил окладистую бороду (хотя по лагерным правилам это запрещалось), и другие заключенные называли его "батюшкой". Ей хотелось сделать хотя бы его фотографию, на память, но фотоаппараты в ГУЛАГе были категорически запрещены. Тогда Бруни взял лист бумаги и быстро нарисовал свой автопортрет, который и отдал супруге – вместе с тетрадкой стихов. Все это ей удалось сохранить.
Уезжая, она не знала, что ее муж погибнет всего через несколько месяцев. Наступила эпоха "повторных приговоров", и Бруни, офицер, священник и дворянин, подходил для этого как никто другой. Он был расстрелян по обвинению "тройки" Управления НКВД Архангельской области 29 января (по другим сведениям, 4 апреля) 1938 года в "расстрельном" лагере Новая Ухтарка. Точное место казни, а тем более его захоронения неизвестно.
Там, где прошли последние годы и дни жизни Бруни, свидетельством о них остался только памятник Пушкину. Сделанный "на скорую руку", чтобы простоять год или два, он пережил и своего создателя, и Сталина, и саму советскую власть, и вообще стал привычной городской достопримечательностью. Он ветшал, от него откалывались кусочки гипса, как от любого советского памятника, – но при этом каким-то неведомым способом продолжал сохранять свою красоту. Наконец в начале нулевых о Бруни вспомнили – и монумент заново отлили из бронзы, укрепив на нем памятную табличку: "Памятник создал в 1937 году Бруни Николай Александрович. Незаконно репрессирован и погиб в Ухтпечлаге".
Конечно, это свидетельство лишь малой части его талантов. Капля в море. Кем он все-таки был – скульптором, пианистом, поэтом, летчиком, инженером, священником? Или ему было все равно, каким способом подниматься в небо?
Похоже, в последний день своей жизни Бруни выбрал самый короткий путь. Кто-то из чудом уцелевших заключенных рассказывал, что прямо перед расстрелом он призвал всех приговорённых к смерти встать с колен, а сам обратился к Богу и запел молитву.