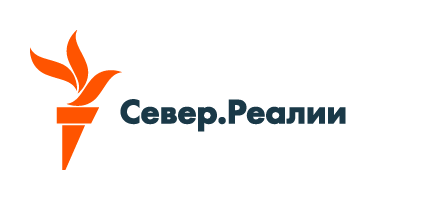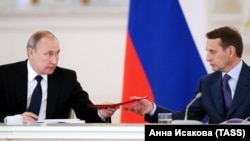Чем дольше продолжается война между Россией и Украиной, которую российские власти до сих пор называют "спецоперацией", тем глубже раскалывается российское общество. Линии разлома идут между уехавшими и оставшимися, z-патриотами и пацифистами, теми, кто живет войной, и теми, кто ее не замечает. Смогут ли в будущем, когда война закончится, ужиться вместе люди с настолько разными картинами мира, Север.Реалии обсуждает с историком советской культуры Ильей Венявкиным.
В списке новых иностранных агентов от 24 ноября оказался 42-летний историк советской культуры Илья Венявкин – Минюст "уличил" его в общении с иностранными информационными площадками, распространении материалов СМИ-иноагентов и неодобрении "специальной военной операции на Украине". Все так, не спорит Венявкин, но радости от включения в реестр не испытывает.
– Как историк, я начинал с того, что изучал сталинскую культуру эпохи Большого террора, читал дневники советских людей второй половины 1930-х годов. Я хотел больше про это время понять и внести свой вклад в то, чтобы такое никогда не повторилось – чтобы людей не преследовали за их взгляды. Тогда, 15–20 лет назад, мне, с одной стороны, казалось, что это уже давно в прошлом, а с другой стороны, все равно я ощущал, что эта опасность есть, что она актуальна, – говорит Илья Венявкин. – Сам этот лейбл "иностранный агент" во многом устроен так же, как советский лейбл "враг народа". Его задача, с одной стороны, запугать общество, с другой стороны, нанести ущерб, моральный или физический, тем людям, которые, по мнению государства, не вписываются в его идеологическую политику. Вот это прискорбная штука. Мне грустно, что в моей стране это повторяется.
Венявкин считает, что непосредственная опасность из-за нового статуса ему не грозит: он не в России, живет и работает в Нью-Йорке. После начала полномасштабного вторжения его пригласили в проект RIMA: Russian Independent Media Archive ("Российский независимый архив медиа"). Его задача – сохранить и сделать доступными для пользователей материалы российских СМИ, заблокированных, закрытых или перекупленных государством в последние годы.
– RIMA – это архив для будущих историков или это что-то, что может понадобиться сейчас?
– Мы видим, как, с одной стороны, российское государство усиливает цензуру и давление на независимых журналистов, а с другой стороны, те материалы, которые уже были созданы, находятся под угрозой исчезновения по самым разным причинам. Что-то блокируют, что-то редакторские команды, которые пришли на место старых команд, удаляют своими собственными руками, что-то исчезает, потому что у маленького независимого медиа заканчиваются средства на оплату сервера. И самое малое, что мы можем делать, – это прямо сейчас попробовать сохранить и удобно предоставить всем, кто интересуется, доступные нам материалы. Архив, который коллективными усилиями независимых журналистов возник в России за последние несколько десятилетий, – это самый ценный источник знаний про то, как устроена современная Россия.
Дальше вопрос: для чего и как это можно использовать? Он уже зависит от того, кто вы и какие у вас цели прямо сейчас. Если вы журналист и пишете материал, то вам нужно вникать в контекст. Вы можете пользоваться нашим архивом для этого. Если вы исследователь, то вы можете использовать разные способы работы с большими данными – лингвистический анализ, что-нибудь еще. Вы можете смотреть на наш архив как на "датасет", которому можно задавать разные вопросы и получать на них ответы. Если вас интересует построение новых институтов в новой России, вы можете смотреть на предыдущий опыт, можете использовать этот архив как базу для своей рефлексии.
Но сейчас мы находимся на этапе, когда наша задача – сначала все собрать, а что из этого вырастет – мы еще до конца не знаем сами. А с другой стороны, мы просто рассчитываем на то, что этот архив станет полезным инструментом, которым начнут пользоваться люди, которые сами придумают его смысл.
– Много уже удалось собрать?
– Прямо сейчас это два миллиона статей из 44 изданий. Мы надеемся, что в течение ближайшего года этих изданий станет порядка 150, и он приблизится к тому, чтобы стать исчерпывающе полным. Это и федеральные, и региональные СМИ.
"Любые источники имеют значение"
– RIMA рифмуется с "Прожито" – электронным сборником советских дневников, которым вы занимались вместе с Европейским университетом в Санкт-Петербурге. Что сейчас с этим проектом?
– "Прожито" – это очень любимый мной проект, но я уже несколько лет не имею к нему никакого отношения. Сейчас "Прожито" существует как исследовательский центр и цифровой архив при Европейском университете, он работает, занимается им Михаил Мельниченко, и я надеюсь, что у них все будет по возможности хорошо.
По своей миссии во многом и RIMA, и "Прожито" похожи. Любые источники имеют значение. Каждый раз, когда вы пытаетесь приоритизировать источники и говорить, что вот эти важные, а эти неважные, вы всегда совершаете выбор и таким образом иногда утрачиваете важные свидетельства. Поэтому нам было важно собирать дневники вообще всех людей, которые жили в Советском Союзе и писали на разных языках. В том числе это меняет представление о том, кто эти самые люди. Дневники многих людей не очень интересные, малоинформативные, банальные, но все равно содержат в себе много важной информации о людях и об их представлениях о реальности, которыми они обладали в то время.
– Этот исторический источник дает ответ на самый больной сегодняшний вопрос: как мы докатились до сегодняшней катастрофы?
– Источники сами по себе не умеют отвечать на вопросы, которые требуют интерпретации. Я противник идеи "почитайте вот это, и все вам станет ясно". Нет, так не происходит. Для того чтобы ответить на вопрос, как случилось та катастрофа, которую мы сейчас проживаем, вы сами должны сформулировать гипотезу, сами должны ее проверить и сами должны взять на себя ответственность за ваши выводы.
Дневники советского времени изучают историки с самыми разными целями. Кого-то интересует история гендерного вопроса в Советском Союзе. Кто-то исследует социальную историю, историю повседневности. Я сам много читал советские дневники, чтобы думать про то, что такое советская субъективность. Субъективность – это тот способ, которым мы пишем и говорим о себе. Есть разница между мной как человеком и теми текстами, которые я о себе произвожу. Эти тексты я не творю в абсолютной пустоте – я опираюсь на тот материал, который меня окружает, материал моей культуры. Сами способы говорения о том, кто такой я и что придает моей жизни смысл, – это исторические артефакты.
Традиционно еще советские дневники изучались как свидетельство о том, как человек может выживать в условиях тоталитаризма, диктатуры или авторитаризма (в зависимости от оптики исследователя). Эти дневники полезно читать для того, чтобы видеть, насколько сложный и многоуровневый ответ человек может произвести в ситуации, когда он сталкивается с прямым государственным давлением.
– И каким может быть этот ответ?
– Есть модель, которая говорит о том, что вот есть государство, оно сильное, оно обладает возможностью давить на человека и давит всей своей мощью, а человек слабый, он этому давлению поддается и, таким образом, утрачивает свою личную свободу. Мне кажется, что эта модель упрощает многое из того, с чем мы сталкиваемся в жизни. Есть более усложненная модель, которая показывает, как важно то встречное движение в сторону государства, которое человек делает. Для того, чтобы государство могло распространять свою идеологию, осуществлять цензуру, подавлять нежелательные проявления разных людей, ему нужна ответная реакция со стороны каждого из своих граждан. И как раз дневники советского времени хорошо показывают, как активно советские люди усваивали и принимали в себя спускаемые сверху догмы и практики, и как они сами становились активными агентами в их распространении.
Когда мы формулируем для себя вопрос – как все это стало возможным? – мы начинаем оперировать большими абстрактными понятиями: государство, культура, институты, исторические события. "Вот надо было тогда провести люстрацию, там что-то надо было сделать по-другому, а тут надо было конституцию не так принимать, а тут что-то еще". И с одной стороны, это интересный и продуктивный пласт, но он, как правило, кажется очень далеким от нас с вами, от обычного человека. И при этом остается важный и правильный вопрос: какие элементы идеологии или культуры, которые я сам разделяю и транслирую, могут быть связаны с тем, что сейчас транслирует российское государство?
Я сейчас говорю не о том, что всем нужно принять на себя деятельное раскаяние и признать, что это мы с вами виноваты в том, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Мне кажется, что тут нет универсального рецепта. Дело каждого – определиться с тем, что он делал, что он думал. Но что отдельный человек не отделен от государства каким-то непреодолимым барьером – про это нужно думать. И важно пытаться увидеть: те практики и идеи, которые мы сами разделяем, в какой мере они не демократичные, в какой мере они авторитарные, в какой мере они высокомерные (если мы видим это в действиях российского государства и хотим с этим бороться).
Режим в стеклянной банке
– Сегодня мы наблюдаем многое из того, что было в Советском Союзе: и двоемыслие, и тотальная пропаганда, и слепая ненависть к Западу, и догма о каком-то невероятном величии нашей страны. Вы согласны с мнением, что "совок вернулся"?
– Нет, я бы не сказал, что "совок" вернулся, в том смысле, что я не верю, что хоть что-либо может вернуться в неизменном виде. Тут всегда важно держать фокус внимания на двух полюсах: что из того, что мы видим, структурно похоже на то, что уже было в прошлом, а что не похоже. И мы увидим очень много нового. Действительно, видим много советских элементов, которые похожи на то, что происходило в послевоенном Советском Союзе, эпохи Брежнева. Очень многие такого рода практики – распространение идеологии, или цензура, или антизападная пропаганда – просто словесно и на уровне логической конструкции буквально повторяют все то, что говорилось во время холодной войны. Потому что это натоптанная дорожка, по ней несложно идти.
С другой стороны, мы видим очень много всего разного. Самый простой пример: никакой частной военной компании с суперджетами под управлением Пригожина в советское время быть не могло. При этом многие советские идеи, связанные с равенством и справедливостью, сейчас не транслируются. Идеология, которую транслирует Путин и высшее российское руководство, – это консервативная идеология. Эти люди отрицают идею прогресса, и это тоже имеет значение.
Я сейчас пишу книгу про разных представителей нынешней российской элиты и про то, какое преображение они проделали за время своей жизни. Поколение, которое сейчас находится в России у власти, – это поколение, грубо говоря, 70-летних людей, которые целиком сформировались в Советском Союзе. Путин же не случайно говорил, что распад СССР – это "величайшая геополитическая катастрофа", она для них была еще и личной катастрофой. Путину в этот момент около 40 лет, и это полностью сформировавшийся человек. Он в лучшей стадии своей карьеры, у него есть представление о том, как устроен мир, и не то чтобы он готов начать жизнь сначала, по крайней мере, для него это суперболезненная штука. Его представления о мире сформированы в советском обществе.
То, что мы сейчас видим, можно логично объяснить ровно тем, что нынешние российские руководители обращаются к тому, что им хорошо понятно и знакомо. К тем практикам и идеям, на которые они вышли в советское время – с подконтрольными медиа, имитацией политической жизни, использованием общественных организаций в целях контроля, использованием законодательства для достижения своих политических целей, проведением кампании за мир во всем мире, для того чтобы осуществлять свое геополитическое влияние. Если посмотреть на то, что было в Советском Союзе, когда Путину и Патрушеву было по 35 лет, и сравнить с тем, что происходит сейчас, то мы увидим много похожих вещей.
– А что принципиально изменилось?
– Если вы помните, важная часть советского образа жизни – это проблемы, связанные с командной экономикой, негибкостью экономического планирования, все эти истории про невозможность достать потребительские товары. Российская элита сделала работу над ошибками, в России больше нет командной экономики, а та экономика, которая есть, управляется на гибридных рыночных принципах, и в этом смысле она гораздо более устойчива и дает возможность группе людей, которая демонстрирует свою полную лояльность, достигать успеха, в том числе экономическими способами. Важно видеть эту разницу.
Самая большая ошибка – это думать, что если мы видим "советские" черты, то и динамика будет похожа. То есть, условно говоря, предсказывать конец путинского режима по образцу распада Советского Союза. Ничто об этом не говорит.
– Работа над ошибками, которую провели российские элиты, делает путинский тоталитаризм более устойчивым, чем советский?
– Они увидели, что были экономические проблемы, которые привели к этому распаду, и теперь стараются их не допустить. Никаких вот этих картин, когда перед праздниками в магазинах нет продуктов. То есть вывод, что экономика должна быть стабильной на уровне потребительских товаров, был сделан.
Еще один вывод был связан с придушиванием всякой гражданской активности. Неслучайно разные репрессивные меры были прямой реакцией российского государства на гражданские революции, которые происходили вокруг России, и на гражданские протесты, которые происходили в самой России. Собственно, тот самый закон об "иностранных агентах" явно был связан с реакцией в Кремле на Болотную.
Следующий вывод, который они сделали: в 1991 году власти не нашли в себе решимости применять силу. И сейчас все делается для того, чтобы этой ошибки тоже не допустить. При любом удобном или неудобном случае любой запрет на применение даже чрезмерной силы снят.
То есть эти люди задавали себе вопрос: а почему же этот самый могущественный Советский Союз в одночасье распался? И дальше есть разные ответы: потому что не было людей, готовых стрелять; потому что экономика была в удручающем состоянии; потому что не было идеологии; потому что были гражданские активисты и диссиденты, которые "раскачивали лодку". И по всем этим пунктам происходит системная работа, чтобы эти риски снять.
Делает ли это режим в итоге более стабильным или нет, я не знаю, потому что он все равно по-прежнему остается очень непредсказуемым. Он живет в какой-то своей стеклянной банке, то есть вместо того, чтобы разрешать конфликты, он их эскалирует и очень плохо оперирует механизмами обратной связи. Кажется, что это приводит к накоплению недовольства, нестабильности, к накоплению какого-то потенциального взрыва. Произойдет он или нет и в какой форме, я не знаю.
– Но объективно – должен произойти?
– Мое поколение выросло с необоснованной верой в общественный прогресс и в естественную эволюцию, при которой есть какой-то общий вектор развития и страны естественным образом становятся богаче, свободнее и демократичнее. Кажется, это была большая и опасная иллюзия. Сами по себе страны не становятся ни богаче, ни свободнее, ни демократичнее. Они могут стать и свободнее, и демократичнее, если им сильно повезет и очень много людей будут прикладывать много усилий, чтобы это случилось. Если мы оглянемся по сторонам, то увидим политические режимы в Северной Корее, или на Кубе, или в Китае, и они все не рухнули, а трансформировались или, наоборот, законсервировались.
То есть вариантов всегда много, нет никакой дороги, которая однозначным образом гарантирует, что вот это все скоро развалится. Как бы нам ни хотелось надеяться на скорые перемены, они сами по себе не произойдут. Все равно должны быть какие-то люди, какие-то силы, кто что-то делает, чтобы эти перемены случились.
– То, что сейчас происходит, – это продолжение распада советской империи или ее возрождение?
– Кажется, что это основной вопрос, и мы не знаем, какой ответ на него победит. Опять-таки, я не верю, что есть процессы, которые идут в какой-то своей объективной логике истории. Путин, патриарх Кирилл, другие люди, которые транслируют позиции российской современной элиты, – все они как раз и говорят, что "наша задача – остановить этот распад", отстроить эту цивилизацию обратно, чтобы она вернулась в геополитическую игру.
– А наблюдаем мы нечто обратное…
– Когда мы говорим о том, что распад сам по себе идет, нас это подталкивает в сторону опасной иллюзии, что события кем-то или чем-то предопределены и происходят сами по себе. Как раз сейчас мы находимся в точке активного противостояния. Многое зависит от того, например, как и чем именно закончится война в Украине. Что именно происходит с каждой конкретной страной, которая когда-то относилась к Советскому Союзу, тоже важно. В каждой из этих стран ситуация может по-разному повернуться. Мы видим силы, которые хотят, чтобы все эти страны вернулись обратно и стали частью постсоветской империи с центром в Москве, и мы видим силы, которые, наоборот, пытаются этому противостоять. Мы не знаем пока, чем именно это закончится. Важно думать о том, где мы в этом противостоянии, и есть ли что-то, что мы сами можем сделать, чтобы на этот исход повлиять.
"Эти голоса просто выключаются"
– Все ваши последние выступления – о том, как говорить с теми, кто с вами не согласен, как находить общий язык с принципиальными оппонентами. Это действительно тема очень важная, потому что, чем дольше идет война, тем дальше расходятся между собой разные россияне: те, кто уехал, те, кто остался, те, кто против войны, те, кто за войну. Пропаганда разгоняет ненависть к антивоенным эмигрантам, и для Z-патриотов мы там все предатели родины. С другой стороны, те антивоенные россияне, которые остались в России, обижаются, что "вы уехали, у вас все хорошо, а нас вы поливаете грязью". Есть ощущение, что общество разорвано по всем швам и, например, релокантам больше не будет места в России…
– Я согласен с тем, что этот раскол происходит. Тут важно понимать, что в ситуации конфликта, когда всем страшно и тяжело, люди гораздо легче начинают любить своих и ненавидеть чужих. Это такая динамика, которая в любом конфликте происходит и которая очень страшная. Можно ли ее преодолеть? Я думаю, что теоретически можно.
Чтобы такого рода разломы преодолевать, вам нужно пытаться с людьми, с которыми вы разделены, сохранять общность в любых других сферах. Если вы продолжаете общаться с этими людьми, то у вас гораздо больше шансов, что вы все-таки не окончательно будете восприниматься как человек чужой или внешний. Удастся ли эти отношения сохранить, будет ли место, куда смогут вернуться те россияне, которые уехали, протестуя против войны, зависит от того, когда это произойдет и при каких обстоятельствах, с одной стороны. А с другой стороны, получится ли у всех нас продолжать сохранять эти отношения, несмотря на все препятствия. И мне кажется, что это важная цель.
Если цель – переубедить другого, сделать так, чтобы он принял ваши взгляды, то эта цель, как правило, очень плохо реализуется. Ее очень тяжело реализовать с человеком, про которого вы знаете, что он думает не так, как вы. Вот мы с вами разговариваем, у нас с вами очень мирный разговор, и я могу попробовать как-то вас попереубеждать, а вы – меня. Если я буду знать, что вы полностью не разделяете мою точку зрения, то все мои аргументы вы будете воспринимать в штыки – они просто будут вас подкреплять в вашей уверенности, что я думаю неправильно, ошибочно, за мной стоят какие-то чуждые интересы. Поэтому ответ на этот вопрос зависит от того, удастся ли всем нам продолжать быть частью этого виртуального или воображаемого сообщества, будут ли у нас общие интересы, общие точки соприкосновения, общие встречи, общие темы для разговоров. Потому что в долгосрочной перспективе окажется, что это имеет значение.
Отношение к войне сейчас, безусловно, важный факт. И в том-то и дело, что нам очень тяжело разговаривать с людьми, которые сейчас оправдывают действия российской армии в Украине. Но когда наступит момент продумывать следующие шаги, то вопрос, который мы будем обсуждать, это "не плохо это или хорошо", а вопрос: что делать дальше? Когда есть вопрос, что делать дальше, то в целом договариваться чуть-чуть проще, потому что вы обсуждаете, вы выбираете из набора разных возможностей. Но до этого момента еще нужно дожить. А сейчас важно, если у вас есть силы и ресурсы, пытаться не обрывать те связи, которые у вас есть, и придумывать способы их сохранять. Собственно, когда этих связей нет, тогда и оказывается, что вам некуда вернуться, не с кем говорить, потому что вы уже просто не принадлежите к этому сообществу.
– Интересно, что война занимает очень разное место в жизни разных людей. И это не зависит от того, уехал человек или остался в России. Для кого-то войны вообще нет, а кто-то только о ней и думает, и это действительно совершенно разные картины мира. Получается, что сейчас у нас нет общего настоящего, и тогда в будущем у нас не будет общего прошлого.
– Это, безусловно, проблема. Хорошо, когда у вас есть общее представление о прошлом, настоящем, будущем, о том, что правильно, что неправильно. Если этого нет, то возникает вопрос: что вы можете с этим сделать? На исторических примерах мы понимаем, что Россия – не единственная страна даже в XXI веке, которая проходит через страшный поляризующий конфликт, который разводит людей в разные стороны. Дальше вопрос: а есть ли у вас идея, что вы идете к какой-то общей цели, и что вы для этого делаете? Есть много разных способов и для общественного примирения, и для разговора о прошлом, для этого есть специальные площадки, есть медиа, есть музеи, есть образование. Вопрос в том, хотите ли вы, чтобы у вас было общее прошлое с этими самыми людьми, которые думают по-другому.
– А какие ваши планы? Вы собираетесь возвращаться в Россию или пускаете корни в другой стране?
– Важные последствия катастроф и кризисов, которые мы проживаем, – это то, что они очень сильно бьют по способности и возможности планировать и загадывать далеко. Я пока ничего не загадываю и стараюсь делать ту работу, которая у меня есть прямо сейчас. Еще несколько месяцев этой работы у меня есть. Хотелось бы мне вернуться в Россию? Безусловно, хотелось бы. Могу ли я сейчас рассчитывать вернуться туда безопасно? Нет, не могу. И статус "иностранного агента" явно мне в этом не помогает. Более того, делает возможность работать в России почти невозможной. Соответственно, выбора у меня немного.