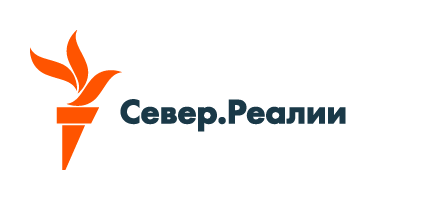Андрей Шалаев, создатель и главный редактор проекта "Бессмертный барак", посвященного сохранению памяти репрессированных в годы советской власти, уехал из России. В октябре его задержала полиция. С чем было связано преследование – никто так и не объяснил. Сам он не сомневается, что причиной была его работа в историческом проекте, а поводом – экскурсия по расстрельным местам мемориального комплекса "Медное" в Твери, которую он провел для французских журналистов.
О преследовании, дальнейшей работе "Бессмертного барака" и о том, почему заниматься сохранением памяти о репрессиях вдруг стало опасно, Шалаев рассказал корреспонденту Север.Реалии.
– Почему вы решили уехать из страны, что стало поворотным моментом?
– Я давал интервью французским журналистам из La Figaro. Мы обсуждали расстрелы в годы Большого террора, в том числе в Твери, где сейчас находится мемориальный комплекс "Медное". Они решили туда поехать, и я захотел присоединиться. Сказал, что хочу своими глазами увидеть памятники Сталину и Дзержинскому – их открытие как раз должно было состояться в тот день. Журналисты ехали своим путем, а я на "Ласточке" сам приехал из Москвы.
Мы встретились на кладбище. В мемориальном комплексе в тот день был день открытых дверей. У них на сайте это анонсировалось – бесплатные экскурсии, бесплатный осмотр. На самом деле я там всего человек пять кроме нас видел в тот день.
Директор комплекса Чуносов записал наши фамилии – в буквальном смысле "взял на карандаш". Экскурсию им организовывать в комплексе не стали, поэтому журналистам все показывал я, так как достаточно хорошо знаю, где какие захоронения расположены. Я их провел по полигону, рассказал о расстрелянных поляках, взятых в плен в 1939 году и убитых в 1940-м. Показал, как сохранена память о расстрелянных в советские годы наших гражданах, в том числе о чекисте Василии Блохине, который расстрелял более 15 тысяч человек лично. В расстрелах поляков он тоже участвовал.
Потом мы уехали в Тверь, посидели в кафе. У французов поезд отходил раньше, они уехали, а я остался в кафе. Возможно, за нами все это время следили и снимали, потому что ко мне сразу подошли двое полицейских: сказали, что им "поступил сигнал" и что нужно поехать с ними для досмотра и уточнения личности. Я успел позвонить друзьям, мы посоветовались и решили, что надо ехать.
На выходе из кафе в торговом центре нас ждали еще несколько полицейских в компании с журналистами. Велась съемка, задавались провокационные вопросы – причем не про "Бессмертный барак", а про то, "зачем я привез французов". Они думали, это я их пригласил. "Что вы им рассказывали? Какое вы имеете право рассказывать что-то французам?" – спрашивали меня. Когда я отказывался что-то говорить, они отвечали: "Вот, французам рассказывали, а нам сложно?". Представлялись они журналистами "Московского комсомольца", хотя наклейка у одного из них на телефоне была "Россия-24".
После этого меня задержали, доставили в отдел. Друзья мои позвонили в ОВД-Инфо, те перезвонили мне, я рассказал им все. В ОВД-Инфо предложили мне воспользоваться чат-ботом, на что я ответил, что это смешно – у меня же сейчас телефон заберут. В то же время моему адвокату, друзьям и родителям ОВД-Инфо сообщили, что совместно с "Мемориалом" выделяют мне адвоката – мол, никакой паники, разберемся, утром пришлем адвоката.
Наутро оказалось, что никакого адвоката не будет. Близкие начали меня искать, объявили в розыск. В отделах полиции им говорили, что меня нет – а мне говорили, что никто меня не ищет. Только в тот отдел, где я находился, мой отец лично звонил четыре раза в первое утро. Потом они просто трубки не брали.
Двое суток они меня продержали, не выпускали в туалет, давали в день полстаканчика воды. Со мной никто не разговаривал, зато подсаживали в камеру каких-то непонятных личностей, которые разными провокациями, видимо, рассчитывали, что я или агрессию проявлю, или буду говорить с ними о чем-то. Мне кажется, они добивались того, что я психану – чтобы отправить в "дурку". Спустя двое суток меня выкинули из отдела. Сказали, что я свободен, никаких документов не дали.
– Ни протокола, ничего?
– Составили бумагу, что я должен явиться 1 ноября для составления административного дела. Якобы я находился в алкогольном опьянении. Это мне стало понятно из единственной бумажки, которую мне дали на подпись. В ней было написано, что я не передвигаюсь, мычу, не говорю, представляю угрозу для общественности.
Когда они меня выпустили, телефон и планшет были заблокированы – их явно пытались взломать. 30 минут ожидания показывал айфон. Позвонить я сразу никому не мог, нашел ближайшую почту, попытался вызвать такси. Тогда я заметил, что за мной снова следят. На вокзале за мной следили минимум 5 человек в гражданском, снимали меня тайком на камеру. Думаю, это "эшники" были (сотрудники центра "Э" МВД РФ по противодействию экстремизму. – СР).
Я не понимал, что происходит. Дождался поезда, уехал в Москву. Прочел всё, что писали обо мне в эти дни (я же был в розыске, а полиция врала, что нет меня), составил картину происходящего.
Осознав, что произошло, я решил уехать в другой город. Но и там слежка продолжилась. И я принял решение уехать из России. Не знаю, что было бы, если б остался. Но с Белорусского вокзал в соседнюю страну меня "провожали" НОДовцы с буквами Z и георгиевскими ленточками. Это при том, что билет я купил за 2,5 часа до отправления. Снимали на камеру, выкрикивали разное: "Почем родину продал?!", "Враг народа!", "Предатель!" Их гонял начальник поезда, проводницы – это же другой страны состав.
– Вы были последним работником "Бессмертного барака", который оставался в России?
– Да, Андрей Хоркин – второй редактор, который трудился со мной со дня основания, – покинул проект после ситуации в Твери. Я остался единственным редактором. У нас есть волонтеры, они ходят в архивы, но не пишут тексты. В редакции я один на сегодня.
Наша работа состоит в том, что люди присылают нам истории, мы их обрабатываем и публикуем. Списки составляем, статьи пишем. Мы изначально строили виртуальный памятник жертвам советской системы. Я вполне могу заниматься этим из любой точки мира. Сейчас это важно.
Кстати, еще один важный момент: бывший сотрудник "Мемориала" Николай Митрохин в ночь, когда я выезжал из России, сделал пост с рассказом о моих родителях, о том, что моя цель – якобы "перехватить" работу "Мемориала" и что "Бессмертный барак" – "спойлерский проект". Пост разнесли многие новостные ресурсы. Гадкая статейка, на мой взгляд.
– А журналисты французские уехали уже? Вышла их статья?
– После всей этой истории они попросили не называть их имена и исчезли. На запрос адвоката и моих друзей не отвечали. Статья так и не вышла. И, видимо, уже не выйдет. То ли они так испугались, то ли… Не знаю, не могу понять. Уж им-то, журналистам, чего бояться.
– А может, это не журналисты были вовсе, а какие-то "засланные казачки"?
– Нет, это точно были журналисты, а не подставные лица.
– С одной стороны – этот странный директор в "Медном". С другой – история на Левашовском кладбище, когда неизвестные спиливали и вывозили памятники, а администрация кладбища – ни сном ни духом. Выходит, в России мемориальными комплексами и вообще сохранением истории репрессий занимаются теперь только такие вот конъюнктурщики?
– Что я вам могу рассказать по поводу директора комплекса в "Медном"? Он бывший сотрудник КГБ, служил в пограничных войсках, бывший директор кукольного театра. Собственно, какого-то исторического образования у него нет.
Или возьмем Бутовский полигон. То же самое: люди, которые, грубо говоря, за войну. Есть там такой человек по фамилии Гарькавый (директор мемориального научно-просветительского центра "Бутово" Игорь Гарькавый. – СР). Или священник, который на Бутовском полигоне настоятель собора, – мы же все знаем, что расстрельные полигоны отдают церкви, чтобы она якобы отмаливала грехи? Ну вот этот священник состоит в Совете по правам человека при президенте России.
Много вопросов. Эта тема очень хорошо взята в тиски. Все, кто ей занимается, – все подконтрольны так или иначе. Мы поставим памятник на проспекте Сахарова жертвам репрессий, но на этом памятнике будет указано всего одно имя – человека, который его открыл. Владимира Владимировича Путина. Тема есть, она существует, они понимают, что для многих она больная, но стараются ее контролировать.
– С началом войны стало тяжелее работать – что изменилось?
– Не могу сказать, что нам мешали, но люди сами больше стали обращаться к истории. Многие уходят от повестки новостной, пытаются себя чем-то занять, ищут в архивах. Запросов о том, как получить на руки дела своих родственников, стало намного больше. Мой адвокат, которая меня вытаскивала из Твери, – у нее, оказывается, на этом расстрельном полигоне погибла бабушка. Так совпало.
Тема репрессий, с одной стороны, кажется больной и нужной для изучения, с другой – представляет угрозу для нынешнего режима. Поэтому ее пытаются держать в узде. Это же заметно даже по архивам. Когда человек обращается в архив, приходит, например, в ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации. – СР) и говорит: мне нужно такое-то дело, такой-то фонд. Так у них глазки сразу начинают бегать. Фонд открытый, дело расстрелянных вправе получить каждый, но работники обязательно поинтересуются: а зачем вам это?
– Все ждем-ждем, пока все архивы рассекретят, а уже давно обратный процесс пошел – на закрытие всего.
– В 1991 году был принят закон о жертвах репрессий (Закон РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18.10.1991. – CР) – прекрасный закон, который у нас совершенно не работает. Потому что все у нас спихнули на "Мемориал" (ликвидарован Верховным судом РФ в 2021 году. – СР), который всегда поглощал маленькие проекты, как наш. У нас в течение восьми лет работали два с половиной человека, мы делали небольшую работу в соцсетях. "Мемориал" 30 лет занимался разными проектами, а потом власти взяли его и прихлопнули.
– Что дальше будет с темой советских репрессий?
– Надеюсь, что закон начнет работать, и в каждом областном центре появится свой музей ГУЛАГа, а не один музей ГУЛАГа в Москве. Что в каждом городе появятся памятники. Что на уроках истории будут проходить эту тему не просто по каким-то там учебникам, а на примерах из собственной семьи. Научат детей читать архивы, какое-то количество уроков будет этому посвящено.
Да, это страшная, постыдная для страны история. Но надо ее проработать, иначе мы будем повторять ее – как сейчас все повторяется. Своим проектом я буду добиваться того, чтобы люди имели возможность сохранить все для своих детей. Мы же это делаем не столько для себя и повышения своей образованности об истории своей страны – мы сохраняем это для своих детей, потому что только их еще можно спасти.