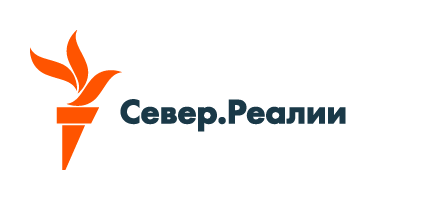22 ноября 2021 года – 80 лет со дня открытия Дороги жизни. Еще остались люди, жители блокадного Ленинграда, которые помнят, как их вывозили из голодающего города по льду Ладожского озера. Корреспондент Север.Реалии поговорила с теми, кто помнит, как это было.
Официальное название Дороги жизни – "Военно-автомобильная дорога N101". Это единственная транспортная магистраль, которая во время Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград с большой землей. Движение по льду Ладожского озера открылось 22 ноября 1941 года, массовая эвакуация ленинградцев началась с февраля 1942 года.
Я проснулась утром, а она не встала
– 3 апреля мне исполнилось четыре года, а 4 апреля меня вывозили по Дороге жизни. Многие удивляются – что же я могла запомнить в таком возрасте, а я запомнила очень много, – рассказывает жительница блокадного Ленинграда Галина Филипповна Куликова. – У меня в конце марта умерла мама. Мы с ней спали, я проснулась утром, а она не встала. И я пошла к соседке по коммунальной квартире – почти все же тогда в коммуналках жили – и говорю: "Я есть хочу, я проснулась, а мама никак не встает". А соседка и говорит: "Ты смотри в окошечко, я на санках твою маму повезу". Мы жили на улице Тюшина, я не помню, увезли маму или не увезли, а помню, что я сидела на окне, а соседка меня закутала в солдатское колючее одеяло. Вот это колючее одеяло я помню. А потом она отвела меня в приемный пункт, где собирали сирот. Мой отец воевал, потом он вернулся в Ленинград и женился. Мою маму звали Елизавета – и мачеху тоже звали Елизавета. И он нашел меня в детдоме и написал – мы с мамой Лизой тебя ждем. А я ему написала – моя мама Лиза умерла. И они поразились – они думали, что четырехлетний ребенок не мог этого запомнить, а я все запомнила. Наверное, в приемном пункте для сирот я пробыла недолго – раз меня уже 4 апреля повезли по Дороге жизни. Машина была не одна, мы шли караваном из нескольких грузовиков. А когда началась бомбежка, в первую машину попал снаряд, и перед ней образовалась полынья. И очень хорошо помню, как из этой машины вынимали детей и пересаживали в другие машины, и в нашу тоже, и в те, что были сзади нас. И взрослых тоже пересаживали, там же не одни дети ехали.
– А что было вокруг машин?
Плыли мы в трюме, и люди прямо там умирали, и их заворачивали в какие-то тряпки и не хоронили, а просто бросали за борт
– Снега не было, на льду была вода. Я помню, как от колес машины, которая шла перед нами, фонтанами отходила вода. Видимо, снег уже таял в апреле. Как мы переехали на ту сторону озера, я не помню, но, видимо, мы там пробыли какое-то время, потому что потом уже нас погрузили на баржи и повезли по воде, очень долго мы плыли. На пристанях нас выпускали – наверное, чтобы мы ноги размяли. И на каждой пристани нас встречали женщины, они все почему-то были в ватниках и подпоясаны солдатскими ремнями. И все повторяли рефреном: "Ленинградские дети, ленинградские дети". Кто-то нам картофелину совал в руки, кто-то семечки, каждый старался чем-то угостить. А плыли мы в трюме, и люди прямо там умирали, и их заворачивали в какие-то тряпки и не хоронили, а просто бросали за борт. Вот это у меня в памяти врезалось очень сильно – что не все доплыли. И привезли нас в Краснодар.
Было уже лето. И был горячий асфальт, по которому было больно ходить босиком. Детей поместили в санаторий, подлечили, спали они прямо на улице, высоко над головами висели гроздья винограда, только начинающие созревать.
– А когда к Краснодару стал подходить немец, нас посадили на телеги, запряженные волами, и возница все время кричал: "Цоб-цобэ!" – рассказывает Галина Филипповна.
Путь, начавшийся на льду Ладожского озера, закончился в городе Фрунзе, где Галина Филипповна прожила в детдоме 6 лет, пока отец не нашел ее и не забрал в Ленинград.
Нина Михайловна Дробиткина, когда ее в конце февраля 1942 года повезли через Ладогу, была еще младше – ей было всего 3,5 года. Когда она выросла, то спрашивала маму о тех подробностях, которые она запомнила, и мама все подтвердила.
Я из всей блокады помню одну Дорогу жизни, даже голода не помню
– Родители ведь не очень распространялись о тех годах и на наши вопросы не очень отвечали, но кое-что удалось уточнить. Мы жили на Курляндской улице, наш дом разбомбило. Тогда мы переехали к бабушке с дедушкой в Парголово. Папа был на войне, его ранило под Боровичами в 1942-м, его отправили лечиться в Самарканд. А в этот момент вышел указ – эвакуировать детей из Ленинграда. Детей до трех лет отправляли с родителями, а тех, кто старше, отбирали и вывозили отдельно. Мама решила не дожидаться, когда меня отберут, и уехать со мной через Дорогу жизни. Это был конец февраля 1942 года, самую тяжелую зиму мы прожили здесь, в Ленинграде. Я очень хорошо помню нашу машину – это была обычная полуторка. Но нам повезло – она была крытая. А двери этой машины были открыты, и вода была между колесами – я потом спрашивала у мамы, почему вода, ведь конец февраля же был. Она говорит – да, был мороз, но машины шли по воде, наверное, потому что трассы были разбитые. Ладогу мы переезжали ночью. Мама говорила потом, что нам очень повезло – ночью немецкие самолеты нас не бомбили. Мы сидели на каких-то мешках, и с нами рядом сидела соседка из нашего дома, тетя Катя. Под утро мы, уставшие, приехали в Кабону и, наверное, сутки ждали погрузки. Нас встретили в церкви святого Михаила, накормили. Эта церковь до сих пор там стоит, отреставрированная уже, я недавно ездила туда на экскурсию. В Кабоне нас снова погрузили в машины и отвезли в Войбокало. А там мы сели в поезд – очень хорошо помню эти товарные военные поезда с открытыми площадками. Мы с мамой месяц ехали до Самарканда, сделали 9 пересадок. Я помню себя на площадке поезда на руках у военного, я кричу, а мама внизу. Поезда же штурмом брали, военные помогли маме, внесли меня на руках, а потом и ее саму втащили буквально по головам. Я из всей блокады помню одну Дорогу жизни, даже голода не помню. А как мы ехали, и у меня в руках был почему-то небольшой зеленый бидон – вот это помню.
Галине Арсентьевне Андреевой в 1942 году было 9 лет.
Если воды не было, иной раз снег на печке топили, снегу было очень много, выходишь из парадной – снег выше меня
– Мама у меня была домохозяйкой, и в блокаду мы трое, мама и я со старшим братом, оказались на иждивенческом пайке. Братишка очень тяжело переживал голод, и мама была вынуждена отдавать свои кусочки ему. И вскоре после начала блокады она слегла. Мы с братом все время ходили за этим пайком скудным, в основном хлеб получали, крупу очень редко. Мы вообще часто ходили на улицу, мама нас заставляла менять на еду какие-то вещи – на рынок мы бегали, а иногда братик сам по подъездам ходил. Но выменять что-то редко удавалось. За водой мы ездили не на Неву, а туда, где был прорыв водопроводной трубы, на саночках, с чайником, с бидончиком. Или собирали у разрушенных домов какие-то деревянные остатки. А если воды не было, иной раз снег на печке топили, снегу было очень много, выходишь из парадной – снег выше меня, только узкие проходы к дровяным сараям. Потом сараи уже пустые были, да и мебель, какую можно было, сожгли. Было у нас сначала немного сухарей, яблоки сушеные, тоже мы это все с братишкой неаккуратно съедали без маминого разрешения, потом она посмотрит – а ничего уже нет. Вот она рано и умерла.
– Как же вы справились без мамы?
– Еще до ее смерти за нами наблюдала паспортистка. Она понимала, что мама умрет, и нас оформила в детский дом на Загородном проспекте. Из дома нас попросили принести все свои вещи – и мы все принесли, даже подушки. Когда нас привели, братишку вскоре забрали в группу, а для меня не было места. И я там сидела до вечера, уже канцелярские работники домой уходили, говорят: а что ребенок здесь делает? Хорошо, там у них были попугайчики, они клевали просо, а я подбирала шелуху и сосала ее. А больше я за целый день ничего не ела. И не один такой день был, честно говоря. А тогда уже ночью нашли для меня место, положили с одной девочкой, и на меня сразу напали вши. У нас-то с мамой их не было, она следила за нами. Я это очень болезненно переживала, бегала в заснеженный подвал, раздевалась догола и пыталась их собрать со швов, но ничего не получалось, вши были сильнее нас. А потом я очень ослабла, и меня положили в лазарет, у меня начинался кровавый понос. А через три дня началась эвакуация, брата стали оформлять, а меня не брали, такая я была слабая. Но братишка разузнал, что нас не имеют права разделять как брата и сестру, и меня взяли в группу ослабленных детей, под присмотром медиков.
Как дети тонули, мы не видели, но слышали крики – и понимали, что машина ушла под воду
Нас везли в машине – и через Ладогу на той же машине переправляли. Это были обычные грузовики с брезентовыми тентами. Мы видели и воду на льду, и выбоины, хотя воспитатели просили нас в окна не смотреть. И велели сидеть, прижавшись друг к другу, чтобы было теплее и чтобы не упасть. И бомбежка была, пока мы ехали. Как дети тонули, мы не видели, но слышали крики – и понимали, что машина ушла под воду. Конечно, было страшно, но, с другой стороны, мы уже ничего не боялись. Мы ведь по блокадному городу ходили без страха, хотя обстрелы и бомбежки были и днем, и ночью, и в бомбоубежище не ходили. Не плакали, не кричали, слушались старших – дети были маленькими старичками в этот период. Видели, что народ мертвый на улицах, на лестницах лежит – и не боялись. Боялись только голода, а больше ничего. Когда мы переехали через Ладогу, нас поместили в железнодорожные вагоны, и там стали давать понемногу еды – по полстаканчика крошек от кондитерских изделий, кипяток горячий. Следили за нами, температуру меряли, лекарства давали, какие могли.
– Вы помните, когда появилась настоящая еда?
Нам дали кислые щи в деревянных тарелках с деревянными ложками, это было и экзотично, и вкусно
– Когда мы приехали в Волхов, нас накормили в столовой железнодорожного вокзала. Это было наше второе спасение – уже от голода. Нам дали кислые щи в деревянных тарелках с деревянными ложками, это было и экзотично, и вкусно для нас после голода. Я помню, что съела этот обед, вышла и села на ступеньку поезда. Было уже тепло, март, воробьи в лужах. Мне кажется, именно в этот момент я пошла на поправку. Потом нас привезли в Ярославскую область, в Некрасовский район, от станции везли на лошадях, холодно было, голодно, но все же в эвакуации началась новая жизнь. Конечно, были смерти, в лазарете было много умиравших на моих глазах. И еще крыс было много, по ночам при коптилке они везде бегали, наверное, чуяли смерти.
Екатерине Васильевне Щегловой 93 года, в 1942 году ей было 14 лет.
– Папа мой умер от голода в январе, он не воевал, потому что был инвалидом Гражданской войны, у него не было ноги. Ему было 48 лет. А соседка наша, Тоня, очень ослабела от голода, и она меня уговорила – пойдем с тобой в райсовет и запишемся на эвакуацию. И мы с ней записались, я маме ничего не сказала. А когда к нам пришел дворник и принес удостоверение на эвакуацию, мама очень обиделась на меня и на соседку – что же вы мне раньше не сказали, я бы хоть какие-то вещи на еду обменяла – мы жили рядом с Сенным рынком. Мы срочно собрались и пошли пешком на Финляндский вокзал, я еле шла с тяжелым мешком за плечами. Там нас продержали целые сутки, но не в самом вокзале, а на улице, не знаю, почему в вокзал не пустили. Потом стали подходить машины, люди старались сесть поскорее, но нам достался не грузовик, а маленький автобус, старинный такой. А соседка Тоня не смогла подняться на ступеньки, она так и лежала на них и на груде вещей, и те, кто влезал в автобус, через нее переступали – стараясь не наступить. Мы с мамой ее придерживали за руки, а ноги у нее свисали из автобуса. Добрались до автобуса, есть возможность присесть, от ветра спрятаться, нашли себе местечко и сидят. А она так и лежала на этих ступеньках. Она прямо в этом автобусе и умерла, молодая женщина, всего 42 года ей было. Время было к марту, уже оттепель начиналась, и мы так боялись ехать по этому льду. Я видела, как одна машина – через несколько машин впереди нас – ушла под лед. Видно было, что она окунулась, а люди на своих мешках еще живые, еще сидят. Это, по счастью, было уже у берега, где неглубоко.
Мимо вагонов шли проводники и спрашивали: есть мертвые?
На берегу были солдаты, у них паек был побольше, чем у нас, они были бодрые, хотя все равно голодные, конечно. И когда видели, что ребенок совсем ослабевший, солдат открывал свой мешок и давал что-нибудь, кусочком сахара угощал. Когда мы переехали Ладожское озеро, нас посадили в товарные вагоны. На верхней полке лежал мужчина и всю ночь задевал маму по голове ногой – она его ногу отталкивала, а нога все равно задевала. Утром посмотрели – оказывается, он мертвый. В этом вагоне очень много умирало людей, выехавших из Ленинграда. Мимо вагонов шли проводники и спрашивали: есть мертвые? В конце состава был такой вагон с тамбуром – их туда укладывали, как дрова – одного головой вперед, другого ногами, так и лежали покойники: ноги-головы, ноги-головы, это все я видела.
– Тяжелая была дорога?
Особенно я запомнила станцию Буй, там был длинный-длинный серый сарай, полностью забитый умершими ленинградцами
– Мы были все во вшах. Приехали на одну станцию на озере Ладожском, нас вывели и сказали: все в дегазкамеру! И отвезли в какой-то сарай. Все хоть голодные, но были рады теплому месту и возможности избавиться от вшей. Каждому дали проволочное кольцо, на которое мы должны были нацепить всю свою одежду, и нижнюю, и верхнюю – за петлю, за воротник, как угодно. И когда нам ее вернули, она была прожаренная, без вшей. В этой очереди в баню мы стояли все вместе, и женщины, и мужчины, и дети, абсолютно голые – и не стеснялись. Мы ехали до Краснодара долго, 52 дня. Почти у всех был кровавый понос – а ведь ни туалета, ни даже ведра никакого не было, просто отодвигали дверь, и люди садились и на ходу делали свои дела. К поезду выносили всякие картофельные лепешки, мы выменивали их на вещи, на что-нибудь городское из одежды. Очень много людей умирало, на станциях их хоронили. Особенно я запомнила станцию Буй недалеко от Ленинграда, там был длинный-длинный серый сарай, полностью забитый умершими ленинградцами. Вдоль вагонов ходили люди и спрашивали, есть ли родственники умерших – и все записывали со слов, без всяких документов. Так мы и нашу Тоню записали, с маминых слов.
Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев писал в своих воспоминаниях, что на самом деле во время блокады Дорогу жизни называли Дорогой смерти: "Немцы ее обстреливали, дорогу заносило снегом, машины часто проваливались в полыньи (ведь ехали ночью). Рассказывали, что одна мать сошла с ума: она ехала во второй машине, а в первой ехали ее дети, и эта первая машина на ее глазах провалилась под лед. Ее машина быстро объехала полынью, где дети корчились под водой, и помчалась дальше, не останавливаясь. Сколько людей умерло от истощения, было убито, провалилось под лед, замерзло или пропало без вести на этой дороге! Один Бог ведает! Людей грабили, отнимали чемоданы у истощенных, а самих их спускали под лед. Грабежей было очень много. На каждом шагу – подлость и благородство, самопожертвование и крайний эгоизм, воровство и честность".