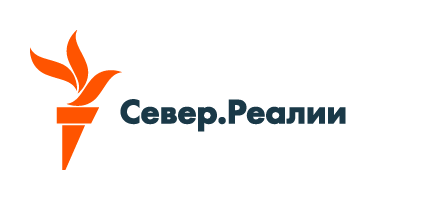13 сентября – международный День памяти жертв нацизма. Для города Пушкина под Петербургом этот день особенный: в сентябре 1941 года вошедшие в город нацисты расстреляли всех местных евреев. Спаслись единицы. Среди них – Нина Хаимовна Вышинская и Маргарита Михайловна Рябиченко. Обеим сегодня далеко за 80, а тогда они были маленькими девочками. Они рассказали корреспонденту сайта Север.Реалии, каким образом их семьям удалось выжить.
Немцы вошли в Пушкин в ночь на 18 сентября 1941 года. Расстрелы евреев начались сразу же: их вылавливали из подвалов, склоняли людей выдавать своих соседей, суля им за это вещи казненных. Когда начался голод, за одного выданного еврея предлагали полкотелка супа. Но основную массу еврейского населения, включая стариков и грудных детей, собрали у комендатуры. Местные жители запомнили, как эту колонну примерно из 800 человек вели на расстрел в парк и как обреченные люди шли и пели печальную песню. Точные места захоронений неизвестны, но есть много свидетельств о местах, где людей заставляли копать рвы, расстреливали и закапывали: это и Розовое поле, и Лицейский садик, и Каприз, и Александровский, Баболовский и Екатерининский парки, и Черные болота, и военный аэродром. Есть свидетельства о том, что около 670 человек закопаны во дворе 3-й школы, около 500 – у Белой башни в Александровском парке.
Нина Клугман: "Немец поверил, что мы не евреи"
Когда началась война, Нине Хаимовне Вышинской (Клугман) было 4 года. В семье было еще трое детей: старшей сестре 12 лет, средней 9, брату – год. Родители были простыми людьми, мама домохозяйка, отец работал краснодеревщиком в Доме партийного просвещения. Семья Клугман, возможно, единственная во всем Пушкине, которой удалось, побывав на допросе в немецкой комендатуре, избежать расстрела.
– Жили мы хорошо, в доме было много мебели, которую отец делал своими руками. Когда родился мой младший брат, назвали его Давид, в честь погибшего дяди, но в семье мы его звали Вовка. В этот год мама не поехала к родным на Украину – боялась, что без нее Вовку потихоньку обрежут. Они в те годы все были уже просвещенные, никто в национальные традиции не верил, кроме старшего поколения. Мою двоюродную сестру вообще звали Сменка, Смена, хотя на самом деле она была Соня. В отцовской семье было девять детей, и все они были прогрессивные, все были революционеры. Когда немцы подходили к Пушкину, мы с братом болели, и поэтому папа не повез нас на поезде в Ленинград, где у него жили сестры, а поехал туда сам – предупредить, что мы скоро к ним приедем. Сестры жили в большой коммунальной квартире, кажется, на 5-й Советской улице. Но когда отец возвращался к нам в Пушкин, назад его уже не пустили, немцы уже заняли Пушкин. Он несколько раз возвращался на эту заставу, и наконец ему сказали: еще раз вернешься – мы тебя арестуем. Вот так получилось, что мы остались в Пушкине, а он в Ленинграде. Если бы он к нам прорвался, то попался бы вместе с нами. И вот, отец не возвращается, немцы в городе, и соседка говорит маме: сожги все документы. Мама так и сделала. Но все-таки соседи указали на нас, что мы евреи. Были хорошие соседи, были и плохие. И уж больно хорошая у нас была мебель. Маме потом, уже после войны, наша добрая соседка, Добрякова, рассказала, что нашу мебель растащили – и стулья тащили, и табуретки, а потом еще и немцы из нашей квартиры вывезли две машины мебели. Последнее, что я помню, это – темная комната и мама меня одевает. В спешке она нас всех одела, а взять с собой ей почти ничего не удалось. И нас отвели в подвалы Екатерининского дворца, это уже потом мама и сестры мне рассказали. Они на евреек не похожи, волосы у них русые, глаза голубые, и мама такая же. И еще она хорошо говорила по-украински. На допросе ее переводчик спрашивает: "Где документы?" Она отвечает: "Сгорели". А он, не поднимая глаз, переводит: " "Пропали при бомбежке". Он ей все время подсказывал, как отвечать.
– А почему на вас указали? – спрашивает немец.
– Ну, люди злые, завидовали нам, вот и указали.
"А можно я вернусь домой? Дети сутки не ели". А он ей, не поднимая глаз, говорит: "Там тебя опять выдадут"
Тогда немец говорит: "Раскройте ребенка". Пеленки развернули – мальчик не обрезанный, и тогда немец поверил, что мы не евреи. И вышел куда-то. Брат орет, его только что отняли от груди, мама тогда и говорит переводчику: "А можно я вернусь домой? Дети сутки не ели". А он ей, не поднимая глаз, говорит: "Там тебя опять выдадут". И нас вместе с этапом погнали под Псков, в лагерь беженцев. Гнали на подводах от деревни к деревне, очень быстро наступила зима, и я хорошо помню эту зимнюю дорогу, как нас везут на дровнях, мы укрыты полушубками. Иногда подводу останавливают, собирают у дороги мороженую клюкву и суют нам с братом в рот. В деревне немцы приказали, чтобы нас пустили ночевать и накормили. И так мы проехали несколько деревень. В одной из них староста сказал маме – куда ты едешь, зачем? Там болезни, дизентерия, голод, оставайся лучше в какой-нибудь деревне. За ночь он сшил нам из старых полушубков что-то типа валеночек, рукавиц и накидушек. Так вот люди нам помогали. Конечно, едет женщина с четырьмя детьми, ничего у нее нет – что она там успела похватать, разве что пеленки для брата. Мы остановились в деревне Каратыгино, определили нас к бабушке, тете Палаше, а у нее дочка была не в себе, потом ее немцы расстреляли. Еще там была тетя Маруся, у которой пятеро детей и муж на фронте, а сама она набожная была, пела в церковном хоре. Вот они маме и говорят: "Мы не сможем тебя прокормить, наверное, чтобы поддержать детей, придется тебе побираться". И мама ходила по деревням и побиралась, приходила вечером: кто что ей давал, чаще всего картошку.
Грудь мама раздоила, Вовка все-таки пил молоко, а я рыдала, картошку не ела, у меня болели ножки, болели ручки, ждала, когда кусочек хлеба дадут. Летом девочки пасли скот, мама всем помогала по хозяйству – на огородах, доить коров, и в конце лета с ней расплачивались продуктами. Она получала рожь, научилась гнать самогон, повадились к ней ходить партизаны, которым она этот самогон и отдавала. А в 1944 году, когда немцы отступали, они начали забирать из деревень все молодое поколение. Нас согнали на станцию, мама была с нами и с козой. Старшая сестра, Зина, была высокая видная девушка. Молодых людей сажали отдельно в теплушки, но и мы с мамой и с козой в эту теплушку попали. Хорошо еще нас коза выручала, хоть и была голодная, но молоко давала. Так мы доехали до города Лор на Майне. А оттуда нас привезли в деревню Закенбах, очень бедную. Всех мужчин оттуда забрали, семьи были в основном многодетные. Вот в одну многодетную семью нас и определили, но старшую сестру Зину взяли в другой дом, где тоже было восемь детей, только успевай поворачиваться. Среднюю, Дину, определили пасти скот. У нашей хозяйки было семь детей, у нее погиб муж, и она очень не любила русских. Правда, мама выговорила себе право – чтобы на ночь все дети приходили спать к ней. И нам выделили комнатку на втором этаже. Днем мама работала по дому и в огороде, а нас с братом определили в садик. Там нас не выделяли, даже фотография сохранилась с какого-то праздника, где я стою в белом платье, на шее корзиночка с цветами. Хотя мы все равно везде чувствовали, что мы не равны: это немцы, а это мы.
Маму допрашивали, и она сказала – еврейка. Я помню свое дикое удивление
Но в садике было еще ничего, а вот хозяйские дети нас очень не любили и часто били. Однажды хозяйка бросила в меня большим куском мыла – по голове попала, кровь текла, так небольшая плешина и осталась на затылке. Но были и такие соседки, которые все время маму звали слушать "вражеские голоса", это же был уже конец 1944 года. У них тоже мужья на фронте погибли, и они все время вымаливали у мамы меня и брата, чтобы она им нас оставила, а мама смеялась и говорила – ну да! Иногда меня забирали из садика, и я в свои 7–8 лет была переводчицей, потому что из соседних деревень и с заводов приходили русские рабочие. Первые слова у брата были немецкие. Средняя сестра тоже быстро освоила немецкий, а старшая его еще в школе изучала. А мама знала идиш, который очень похож на немецкий. Но это только мама с сестрами знали, кто они такие, а мы с братом и не подозревали, что мы евреи. Я впервые узнала об этом, когда нас освободили американцы, маму допрашивали, и она сказала – еврейка. Я помню свое дикое удивление. Пока были в плену, мама как бы отделила от нас старшую сестру, она была Зина Ефимова, а мы были не Клугман, а Клугмановы. Документов не было, но мама все равно боялась, что если вдруг нас зацепят, то пусть хоть она останется. В какой-то момент все взрослое население забрали на заводы – потому что немцы терпели крах, забирали с заводов на фронт даже юнцов. И вот, Зина работала на заводе, делала снаряды и рассказывала нам, как они потихоньку их портили, подрывной деятельностью занимались, так сказать. А Дина пасла коров, и когда пролетали американские бомбардировщики, она кричала: "Молодцы, так их, Гитлер капут!" И вот встречает маму ее хозяйка и говорит: "Я не хочу зла для вашего ребенка, запретите ей это кричать, не такая уж у нас хорошая деревня". Ну, мама сделала Дине внушение, и она больше не кричала. Там у них был такой редкий лес, и когда американцы наступали, все ушли туда, вырыли там землянки, и мы тоже ушли. Деревню очень основательно разбомбили. После допроса у американцев мы попали в лагерь, а мама всюду искала Зину – и все-таки нашла ее. Так мы воссоединились и вернулись назад, в Пушкин. Зина пошла в школу вечерней молодежи, брат пошел в детский сад, я в первый класс. А средняя, Дина, за два года прошла четыре класса, умница была, потом стала кандидатом геологических наук.
Отец мой во время войны работал на заводе, делал ящики для снарядов. А потом пошел добровольцем на фронт. Был сапером, в 1942 году погиб под Ленинградом. А мама, пока мы были в Германии, все время верила, что он жив. Пенсия за него была очень маленькая, 300 рублей на троих детей, мама одна, работала она на зональной станции, тяжело было. Когда ее нашла ее старшая сестра, она и говорит: "Чем тебе помочь?" – "Купи корову". И сестра купила ей корову.
Но как ни тяжело было выживать, мама всем нам дала высшее образование
В прежнюю квартиру мама не захотела возвращаться, нам дали жилье в двухэтажном деревянном доме на шестерых хозяев на окраине Пушкина, зато там можно было держать и корову, и кур, и коз. Мы должны были в обязательном порядке собрать мешок травы каждый день, и мама возила молоко в город, продавала. На наших семейных фотографиях видно, что одно и то же платье сначала на одной сестре, потом на другой, а потом уже на мне. Вот только жалко было, что я роста небольшого, и ножка у меня маленькая, обувь их мне не подходила, вот такая печаль была. Но как ни тяжело было выживать, мама всем нам дала высшее образование. Мы даже мечтать не могли куда-то в сторону уклониться. Зина окончила физико-математический факультет в Герценовском институте, мы с сестрой – сельскохозяйственный институт, я была экономистом широкого профиля. Муж у меня был военный, 20 лет мы прожили с ним на Дальнем Востоке, теперь я живу в Павловске.
Маргарита Рябиченко: "Нас не выдали"
Маргарита Михайловна Рябиченко родилась в Пушкине, когда началась война, ей было 6 лет.
– У меня отец еврей, а мама русская. Отца с нами не было, так получилось, что он остался в Ленинграде и умер там от голода. А мы выжили только потому, что нас соседи не выдали. Хотя Пушкин город маленький, мы там родились, и все прекрасно знали, кто мы такие, но нас они не выдали. Я помню, что наши мамы рыли окопы, и мы в этих окопах скрывались, когда немцы пришли. Как таковых немцев я не помню – помню только, что нас, детей, всех собрали, погрузили на машины и отправили в лагерь в Гатчину.
Вот Гатчину я хорошо помню, там был какой-то огромный амбар, и было пространство, огороженное проволокой, за которой находились наши военнопленные. Мы там прожили два или три месяца. У меня был родной брат и две двоюродные сестры, а наши родители шли за нами пешком, моя мама и тетя еле нас нашли, маленьких, кричащих и голодных.
Нам выделили комнатку в шесть метров на четверых детей и двух женщин, кто-то спал на полу, кто-то под лавкой. Есть было нечего
В лагере нам давали понемногу какой-то болтанки ужасной. Потом всех, кто был постарше, увезли куда-то в Прибалтику, а нас, малышей, которые никому не нужны, вместе с мамами посадили в теплушку, провезли немного и просто выбросили в Ленинградской области на маленькой станции. И мы пошли искать место, где можно жить, деревню, куда бы нас пустили. Я помню, как мы шли, уже лежал снег, постучались в какую-то избу. Нас не везде и не всех принимали: кому нужны четверо детей и две тетки? Мы долго ходили, но все-таки в одном месте на окраине нас приняли, это была деревня Именицы. Там очень многие дети из Пушкина остановились с матерями. Даже когда мы потом вернулись в Пушкин, мы все поселились в одном доме. Уже в 2000 году меня сын туда возил, нам нужна была справка о том, где мы были в оккупации. И люди, которые нас принимали, оказались еще живы, и они подтвердили, что мы в это время жили у них. А тогда нам выделили комнатку в шесть метров на четверых детей и двух женщин, кто-то спал на полу, кто-то под лавкой. Есть было нечего, очень сложно было. Когда весной вылезла первая трава, мы ходили с сестрой, рвали ее, и наши мамы пекли из нее какие-то лепешки. Потом мы с сестрой собирали колоски. Чтобы наша хозяйка нас не выгнала, моя мама печки топила, все убирала. А работала она на железной дороге у немцев, и все женщины почти там работали, какой-то паек им за это давали. А когда по нашей деревне проходили немцы, заходили в дома, то хоть деревенские нас и не выдавали, но мы, конечно, все равно боялись и прятались – в амбар, в сено, сидели там, и нас было не видно. Когда немцы проходили, мы оттуда вылезали. Но если бы тогда, в 1941-м, немцы не вывезли нас из города, который они освобождали от гражданского населения, то мы бы там точно с голоду умерли: тех людей, которые ходили на соседние поля, искали неубранную картошку, сразу расстреливали. А в Пушкине ведь никаких карточек не было, даже тех 125 грамм, что выдавали в Ленинграде. В Пушкине раньше был большой рынок, весь забитый товарами. Мама рассказывала, что когда еще до прихода немцев начались обстрелы, рвались бомбы, там прямо по земле тек сахар, плавился от жары, и мы все, что можно было, собирали. А около промтоварного магазина мама с тетей нашли большой рулон кожи, и когда их выгоняли из города, они взяли эту кожу с собой, и потом, уже в деревне, резали на куски и продавали, выменивали на еду, это нам тоже помогло. Когда Пушкин освободили, мы туда вернулись. Потом это был для нас большой минус, что мы были в оккупации. Моя двоюродная сестра окончила фармацевтический техникум и только с большим трудом устроилась в воинскую часть, ее не хотели брать из-за этого. И сестре не разрешали выходить замуж за военного. Очень долго на нас лежало это клеймо, как будто мы виноваты, что через нас проходила линия обороны. А у меня целых два клейма было – пятый пункт (графа национальности в документах. – СР), так что я и в институт еле поступила, только на вечерний, и за границу меня никуда не выпускали.
О том, что в Пушкине расстреляли всех евреев, она узнала уже после войны.
– Когда я училась в школе, мне одна девочка рассказала, как она шла по улице с мамой и видела повешенных – пожилого человека и девушку с длинными красивыми волосами, и табличка на них была: "Партизаны". На этом месте вешали евреев и вообще всех, там теперь часовня стоит, напротив кинотеатра "Авангард".
А рядом жил известный писатель-фантаст Беляев, он потом от голода умер, и у него из окон было видно, как все это происходило. Повешено было очень много, и евреев, и всех без разбору. У нас в Пушкине до войны было 36 тысяч жителей, из них 18 тысяч увезли неизвестно куда – в лагеря, в Германию, в Эстонию, в Литву, около девяти тысяч погибло от голода, а из евреев вообще никого не осталось.
Такая участь постигла евреев не только в городе Пушкине. Историки считают, что во время оккупации в Ленинградской области было расстреляно несколько тысяч евреев, эти места иногда называют северной границей Холокоста.